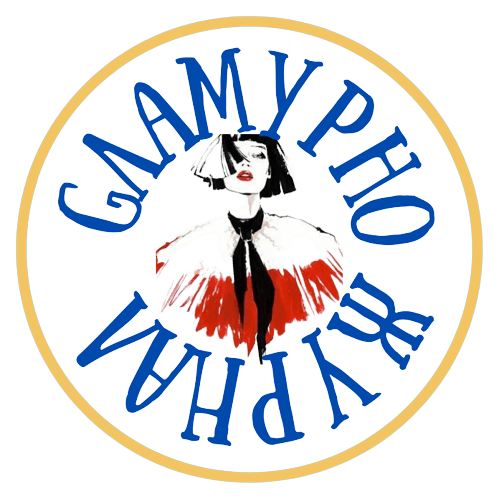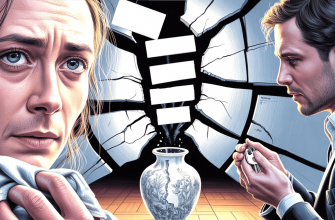— Ты хоть понимаешь, какие проценты по налогу на доходы с недвижимости? Если продавать раньше трёх лет владения? — Глеб бил металлической ложкой по керамическому подстаканнику. Получался противный, визгливый звук, будто скребут по стеклу. — Полина, будь умницей. У матери — ветеран труда, у неё корочки, она вообще освобождена от этого платежа. Чистый выигрыш — больше пятисот тысяч. Полмиллиона, Поль! На эти деньги мы сразу и кухню обновим, и санузел.
Полина стояла у балконной двери, наблюдая, как по двору, засыпанному грязным снегом, кружит обрывок газеты. Она не оборачивалась. Ей не требовалось видеть лицо мужа, чтобы услышать фальшь. Он врал не нагло, а как все слабые лжецы — замусоривая суть выгодными полуправдами.
— Мы покупаем эту квартиру не для перепродажи, — ровным, безэмоциональным голосом сказала она, поправляя рукав растянутого свитера. — Сделку назначаем на двадцать восьмое декабря. И берём мы её, чтобы жить в ней, Глеб. А не спекулировать.
— Жизнь непредсказуема, — философски изрёк муж, глотая остывший чай. — Сегодня одно, завтра — другое. Может, район не понравится. Или захочется чего-то большего. Зачем загонять себя в рамки? Мама — человек надёжный, старой школы. Оформим на неё, она тут же сделает дарственную на меня, если тебя это успокоит. Или завещание оформит. Всё решаемо.
— Завещание? — Полина медленно повернулась к нему.
Глеб был статным мужчиной, но в последние годы его лицо обрело выражение постоянной, мелкой озабоченности, характерное для людей, считающих себя расчётливыми стратегами, но раз за разом попадающих в тупики. Высокий лоб, намечающаяся лысина, которую он зачёсывал редкими прядями, и глаза цвета промозглого декабрьского дня.
— А что такого? Всё под Богом ходим, — он развёл ладонями. — Поль, ну чего ты как вкопанная? Это же просто юридическая формальность. Бумажка. Жить-то будем мы. Ключи — у нас.
— У твоей мамы, — чётко, разделяя слова, произнесла Полина, — есть ещё один сын. Твой брат. Кирилл. У которого, если я не забыла, две невыплаченные ссуды, ребёнок от первого брака и перманентная занятость в сфере «перспективных стартапов».
Глеб скривил губы, будто почувствовал горечь.
— При чём здесь Кирилл? Мама никогда не поступит несправедливо. Она знает, чьи это кровные.
— Кровные — мои. Сбережения бабушки плюс то, что я копила шесть лет. Твоя часть — процентов тридцать, не больше, Глеб. И ты предлагаешь записать собственность на Валентину Степановну ради гипотетической выгоды, которая может и не наступить?
— Ты мне не веришь, — констатировал он. Это был не вопрос, а последний аргумент, козырь, который он вытаскивал, когда заканчивались разумные доводы.
Полина смотрела на него долго и пристально. В коридоре тикали дешёвые кварцевые часы, отсчитывая секунды их совместной жизни, которая внезапно показалась ей зыбкой, ненадёжной конструкцией, собранной на скорую руку.
— Я верю цифрам и документам, Глеб. А они говорят, что оформлять жильё на свекровь, имея на горизонте сомнительного деверя, — это не стратегия. Это самоубийство. Или благотворительность в особо крупных размерах.
Валентина Степановна проживала в «хрущёвке» с низкими потолками и устойчивым запахом лекарственных трав, смешанным с ароматом старой шерстяной ткани. Она была женщиной поджарой, прямой, как жердь, и невероятно бодрой для своих семидесяти двух. Никаких домашних халатов она не признавала — даже в четырёх стенах носила строгие юбки и кофты, будто каждую минуту ожидала важного телефонного звонка из былых времён.
Когда Полина с Глебом приехали в субботу «на обед», стол уже был сервирован. Никаких изысков не наблюдалось — Валентина Степановна считала кулинарные излишества признаком легкомыслия, а траты на продукты — дурной расточительностью. На столе красовались сухари из чёрного хлеба, тарелка с дешёвыми пряниками и алюминиевый чайник.
— Кирилл звонил, — мимоходом бросила свекровь, разливая по чашкам крепкую заварку. Рука её не дрогнула. Глаза, небольшие, пронзительные, зорко следили, сколько ложек сахара сыплет в чашку невестка. — Опять у него трудности. С работой той, новой. Контракт сорвался.
— Опять? — Глеб нахмурился. — Он же только в ноябре всё с восторгом рассказывал про этот проект.
— Не его вина, ясное дело. Партнёры подвели, рынок упал… — Валентина Степановна вздохнула, но в этом вздохе не было печали, лишь сухое, деловое сожаление. — Ему поддержка нужна. Финансовая. Чтобы долги закрыть и снова на ноги встать.
Полина молча размешивала сахар. Ложка не звенела о фарфор. Она знала этот алгоритм. Свекровь никогда не просила в лоб. Она создавала атмосферу кризиса, который близкие обязаны были устранить своими силами.
— Мам, у нас самих всё вложено, ты в курсе, — поспешно сказал Глеб, бросив быстрый взгляд на жену. — Двадцать восьмого — подписание документов.
— Да я всё понимаю, — кивнула Валентина Степановна. — Квартира — дело первостепенной важности. Кстати, Глебушка обмолвился, вы решили на меня оформлять? Это разумно. Я уже узнавала, в нашем МФЦ запись на январь только, но я знакомого попросила, нам талончик на двадцать восьмое выкроили. На десять тридцать.
Она не спрашивала. Она констатировала.
Полина аккуратно положила ложку на блюдце.
— Валентина Степановна, Глеб, видимо, выразился неточно. Мы не принимали такого решения. Это было его предложение, с которым я не согласилась.
В комнате воцарилась тишина. Слышно было, как за стеной плачет соседский ребёнок. Свекровь неспешно перевела взгляд с сына на невестку. В её взгляде не читалось злобы, лишь холодный, отстранённый интерес, будто она наблюдала за насекомым, внезапно изменившим заданное направление.
— Не согласилась? — переспросила она. — В чём причина? Опасаешься, что я тебя выставлю?
— Нет, — Полина улыбнулась только губами. — Опасаюсь, что Кирилл снова впутается в какую-нибудь авантюру, и судебным приставам понадобится имущество для погашения его долгов. А у вас, кроме будущей доли в нашей квартире, брать-то и нечего. Ваша же часть в этой «хрущёвке» уже давно переписана на него, я права?
Глеб подавился чаем.
— Откуда ты… Мама? Это правда?
Валентина Степановна даже не моргнула.
— Кириллу нужен был стартовый капитал. Мужчине в жизни сложнее пробиться. А у тебя, Глеб, всегда голова на месте была. И супруга у тебя… деловая.
— То есть, — голос Глеба сорвался, — моя доля здесь…
— …уже несколько лет как принадлежит брату, — закончила за него Полина. — Я заказала выписку из реестра ещё в ноябре, когда ты впервые завёл разговор про «оформить на маму».
Глеб смотрел на мать. В его глазах рушилась целая вселенная, где он был успешным, опорным сыном, а брат — вечным неудачником. В реальности картина оказалась обратной: он был источником средств, а Кирилл — главным проектом, поглощающим все ресурсы.
— Ну и что с того? — жёстко спросила Валентина Степановна, сбрасывая маску добропорядочной пенсионерки. — Кириллу не везёт. Ему помощь необходима. А вы — молодая пара, ещё заработаете. Если квартиру запишете на меня, я буду спокойна, что фамильное имущество при мне. А то мало ли что… Разойдётесь, и достанется жилплощадь чужим людям.
— Я для вас — чужая? — тихо, но отчётливо спросила Полина.
— Ты — жена Глеба. Сегодня — ты, завтра — может, другая. А родная кровь — она навсегда.
Обратная дорога проходила в гробовом молчании. Глеб вцепился в руль, но не до белых костяшек — его хватка была мёртвой, автоматической. По шее бежала пульсирующая жилка. Он был не в ярости. Он был уничтожен. Не самим намерением матери, а осознанием своей роли в этой семейной иерархии — роли дойной коровы, а не любимого сына.
— Ты знала, — наконец произнёс он, не отрывая глаз от мокрого асфальта. — Почему молчала про долю Кирилла?
— А ты бы мне поверил? — Полина смотрела на мелькающие за стеклом витрины, украшенные к Новому году мишурой и скидочными стикерами. — Ты бы сказал, что я всё выдумываю, что я предвзята к твоим. Тебе нужно было услышать это из её уст.
— Она рассчитывала, что я куплю жильё, оформлю на неё… И что дальше?
— А дальше Кирилл накопил бы долги побольше. Или затеял бы очередной «прорывной» проект. И мама заложила бы квартиру. Или продала бы часть. Она же сама сказала: «фамильное имущество». Фамилия для неё — это она и Кирилл. Ты — инструмент, Глеб. Ты слишком самостоятельный, в опеке не нуждаешься.
Они остановились на перекрёстке. Глеб повернул голову к жене. В свете уличного фонаря его лицо казалось измождённым, с резкими тенями.
— И какой теперь план? Двадцать восьмое число на носу.
— Двадцать восьмое состоится, — твёрдо заявила Полина. — Но сценарий будет другим.
Двадцать восьмое декабря выдалось снежным с дождём. В агентстве недвижимости пахло свежей краской, кофе и дезодорантом. Риелтор, молодой парень в строгом пиджаке, разложил на столе папки с документами.
Валентина Степановна прибыла минута в минуту. На ней был тёмно-синий костюм, словно для официального приёма, и держалась она с подчёркнутой, холодной важностью. Рядом топтался Кирилл.
Брат Глеба походил на человека, только что вышедшего после бурной ночи: помятая рубашка, несвежий взгляд, и он беспрестанно жевал резинку, пытаясь заглушить запах вчерашнего.
— Кирилл зачем? — спросил Глеб, сухо кивнув матери. Руки брату он не протянул.
— Для моральной поддержки, — уклончиво ответила мать. — И совета. У него нюх на юридические тонкости.
— У него нюх только на бесплатные ресурсы, — сквозь зубы процедил Глеб.
Полина сидела за столом, внимательно изучая последнюю страницу договора купли-продажи.
— Ну что, договорились, — Валентина Степановна придвинула стул поближе к риелтору. — Где ставить подпись? Паспорт мой здесь.
Риелтор смущённо посмотрел на Полину, потом на Глеба.
— Извините, но в договоре в качестве приобретателя указана исключительно Полина Сергеевна. Единоличный собственник.
Валентина Степановна застыла. Кирилл перестал жевать.
— Как это — Полина? — голос свекрови стал низким, металлическим. — Мы же условились. Глеб?
Глеб стоял у окна, заложив руки за спину. Он обернулся. Во взгляде его читалась усталость, но не было ни капли сомнения.
— Мы изменили условия, мама. Средства у Полины — чистые, документально подтверждённые. Ипотечного кредита нет. Оформляем только на неё.
— На неё? — Валентина Степановна медленно поднялась. Она казалась хрупкой, но от неё исходила такая концентрация гнева, что риелтор отодвинулся. — Глеб, ты осознаёшь последствия? Это общее имущество супругов, но если право собственности только у неё…
— …то по закону для нас ничего не меняется, — перебила Полина, откладывая ручку. — За исключением одного момента. Совершить любую сделку с этой квартирой без моего личного, нотариально заверенного согласия — невозможно. Заложить её для покрытия долгов родственников — в первую очередь.
— Это на что намёк? — взорвался Кирилл. — Ты что имеешь в виду?
— Я не намекаю, Кирилл. Я говорю прямо.
— Оформлять квартиру на твою мать я категорически отказываюсь, можешь хоть сто раз повторить — почти дословно процитировал Глеб слова Полины, глядя прямо на брата. — И знаешь что? Она была абсолютно права.
Валентина Степановна побледнела. Её губы сжались в узкую, бескровную полоску.
— Вот как вы заговорили со мной. Значит, мать стала врагом? А когда тебе на операцию в девять лет деньги собирала, когда твою учёбу оплачивала…
— Мама, хватит, — Глеб поморщился, будто от физической боли. — Я знаю про дарственную на Кирилла. Знаю, что моя доля в твоей квартире ушла ему. Ты сделала свой выбор. Ты выбрала того, кого нужно тянуть из ямы. А я буду вытаскивать свою собственную семью.
— Семью? — ядовито усмехнулась свекровь, кивнув на Полину. — Это сегодня она семья. А завтра…
— Завтра разберёмся, — резко оборвала Полина. — Подписываем документы.
Из агентства они вышли спустя полтора часа. Снег с дождём прекратился, небо затянуло сплошной серой пеленой. Валентина Степановна и Кирилл ушли, не прощаясь. Кирилл что-то горячо и громко доказывал матери, жестикулируя, а та шла, опустив голову, сгорбленная, будто нёсла на плечах неподъёмную тяжесть провала.
Глеб достал сигареты. Он бросил курить четыре года назад, но сегодня утром купил пачку.
— Думаешь, это конец? — спросил он, выпуская струю дыма в морозный воздух.
— Нет, — честно ответила Полина. — Теперь ты для них — жадный, бездушный эгоист, которым управляет корыстная жена. Кирилл будет жаловаться всем родным, как мы его с матерью «объегорили».
— Пофиг, — неожиданно легко выдохнул Глеб. — Знаешь, я даже почувствовал облегчение. Будто многолетнюю гирю с души сбросил. Всю жизнь я пытался добиться её одобрения. Думал: вот, обеспечу, вот, сделаю как лучше, и она скажет: «Умница, сын». А выходит, «умница» — это тот, кто постоянно создаёт проблемы, а не решает их.
Полина взяла его под локоть.
— Поехали, Глеб. Нам ещё ламинат смотреть. И слушай: никаких «под дерево». Надоело.
— Только холодный бетон или графит, — хмыкнул он, выбрасывая окурок в сугроб. — Чёткий, предсказуемый, без сюрпризов.
Прошло чуть больше полугода. Июнь.
Ремонт в разгаре — на той стадии, когда все средства вложены, а финальной отделки ещё не видно. Полина, сидя на корточках в пустой гостиной, распаковывала коробку с посудой. Глеб монтировал карниз для штор. Звук перфоратора был для них сейчас самой приятной музыкой — символом их собственной, отвоёванной территории.
Телефон Глеба, лежавший на подоконнике, завибрировал. На экране горело: «Мама».
Глеб выключил инструмент. Взглянул на экран. Тишина, наступившая в квартире, стала густой, давящей.
— Берёшь? — спросила Полина, не отрываясь от упаковочной плёнки.
Глеб секунду помедлил, вытирая пыль с рук.
— Кирилл, наверняка. Снова что-то стряслось. Или с деньгами проблемы, или с законом.
— Скорее всего.
— Алло, мама. Да. Привет. Что? Кириллу срочно нужны сто пятьдесят? До понедельника? — Глеб тихо рассмеялся, и в этом смехе звучала новая, жёсткая нота. — Нет, мама. Не дам. У нас ремонт. Каждая копейка на счету. Как? Нет, мы не можем одолжить даже часть. И брать кредит я тоже не намерен. Почему? Потому что у нас свои обязательства и свои цели. Мама, у Кирилла есть доля в твоей квартире. Пусть продаёт свою часть, или закладывает. Это его актив. Ах, нельзя трогать родовое гнездо? Что ж, тогда мне нечем помочь.
Он слушал ещё с полминуты, лицо его становилось каменным. Потом он просто положил трубку.
— Что сказала? — спросила Полина.
— Сказала, что я чёрствый, бессердечный ублюдок, и что она отрекается от меня, пока я не опомнюсь и не помогу брату.
— Больно это слышать?
— Неприятно, — признался Глеб. — Но знаешь, Поль… Проходит. Как синяк. Главное — не тыкать в него постоянно и не давать подставить это место под новый удар.
Он снова взял в руки перфоратор.
— Подай шестимиллиметровый дюбель. Вон из той пачки.
Полина вложила ему в ладонь пластиковый цилиндр. Их пальцы соприкоснулись на мгновение. Это не было страстным прикосновением. Это было простым, понятным жестом сообщников, которые прошли через переделку и прикрывали друг другу спину.
— Глеб.
— Да?
— Карниз-то, кстати, мы отличный выбрали. Хоть и переплатили.
— Качественные вещи всегда стоят дороже, — ответил он, прицеливаясь к стене. — А тот, кто ищет халяву, в итоге платит дважды. Или остаётся совсем ни с чем, в чём ему помогает вся его родня.
Перфоратор взревел, заглушая всё вокруг, отсекая прошлое, утверждая настоящее. В их доме, где правила устанавливали они сами, и где ни у кого не было права без спроса переставить даже стул.