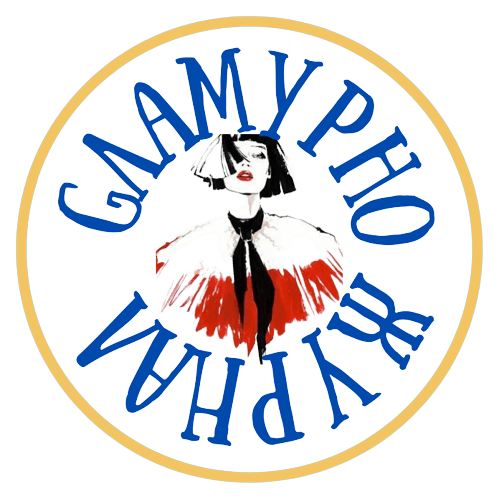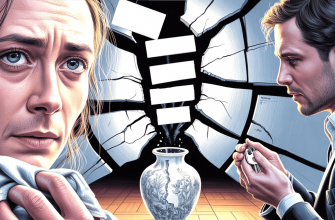Телефон зазвонил ровно в девять утра.
Валентина Семеновна поправила салфетку на столе, где стоял небольшой медовый торт, купленный вчера в «Пятерочке» со скидкой. Она знала, кто звонит. В день получения пенсии звонили всегда.
‒ Мамочка! ‒ в трубке зазвенел сладкий голос Ольги. ‒ Доброе утро! Как спалось? Как твои фиалки? Я вчера думала о тебе весь вечер!
Валентина молча прислушивалась к дыханию дочери, считая про себя. Обычно до главного вопроса проходило две минуты. Иногда три, если Оля была в особенно хорошем настроении.
‒ У меня все хорошо, Оленька, ‒ ответила она тихо, садясь на табуретку возле окна. За окном серел обычный спальный район, хрущевки, детская площадка с облупленными качелями. Март был холодный, снег не думал таять.
‒ Я так рада! Знаешь, мама, я тут подумала, может, в выходные заеду? Борщика твоего поем, по душам поговорим. А то мы так давно не виделись!
Валентина посмотрела на календарь. Последний раз Оля приезжала на Новый год. Пробыла двадцать минут, выпила чаю, забрала двадцать тысяч «до зарплаты» и умчалась на такси к подругам. Зарплата прошла, но денег Оля не вернула. Не вернула и в прошлый раз, и в позапрошлый.
‒ Приезжай, конечно, ‒ сказала Валентина Семеновна, и в горле у нее стало горько и тесно.
‒ Вот и чудесно! ‒ Оля сделала паузу. Валентина знала эту паузу. Сейчас начнется. ‒ Слушай, мам, а ты же сегодня за пенсией ходила, да? Получила?
‒ Да, получила.
‒ Мамулечка, родная моя! ‒ голос Оли стал еще слаще, почти приторным. ‒ Ты меня очень выручишь. У меня тут такая ситуация. Помнишь, я тебе говорила про штраф за парковку? Ну, я забыла оплатить вовремя, и теперь там пени начислили. Совсем ерунда, каких-то семь тысяч. Но если до пятницы не заплачу, вообще караул будет. А зарплата только через неделю! Мам, я все верну, честное слово. На следующей неделе сразу переведу.
Семь тысяч. Ерунда. Валентина закрыла глаза. Ее пенсия была шестнадцать тысяч. Из них три с половиной уходило на коммунальные платежи, полторы на лекарства для давления, тысяча на проездной. Оставалось восемь тысяч на еду, на хозяйство, на жизнь. Она уже два месяца откладывала по пятьсот рублей, копила на новый холодильник. Старый «Бирюса» грохотал так, что соседи снизу стучали по батарее.
‒ Оленька, но у меня…
‒ Мама, ну ты же не оставишь меня? ‒ в голосе Оли появилась обида. ‒ Я твоя дочь. Мне же некуда больше обратиться. У меня кредиты, съемная квартира, ты же знаешь, как мне тяжело!
Знаю, подумала Валентина Семеновна. Знаю, что ты вчера выложила в фотографию с новой сумкой. Знаю, что ты каждые выходные ходишь в кафе. Знаю, что твоя съемная квартира в центре стоит сорок тысяч в месяц, а моя пенсия одинокой пожилой женщины вдвое меньше.
‒ Хорошо, ‒ сказала она. ‒ Скину сегодня.
‒ Ой, мамочка, спасибо! Ты лучшая! Целую тебя! Ну, мне бежать надо, работа. Люблю!
Гудки. Оля положила трубку. Валентина продолжала сидеть, держа телефон у уха, и смотрела на торт. Купила его для себя. Просто так. Потому что захотелось сладкого, захотелось порадовать себя. Теперь на сладкое в этом месяце денег не будет.
Она медленно опустила телефон на стол и посмотрела на фотографию в старой деревянной рамке. На снимке она была молодая, лет тридцати пяти, с короткой химической завивкой и в ситцевом платье. Рядом двое детей: Андрюша, серьезный мальчишка лет десяти, и Оленька, кудрявая девчушка с бантами. Они смеялись. Все трое смеялись. Это было на даче, которую они с мужем строили по выходным, таская кирпичи и месив цемент. Муж фотографировал. Он умер через три года после этого снимка. Инфаркт. Ей было тридцать восемь. Андрею тринадцать, Ольге десять.
Она провела пальцем по стеклу рамки, по лицам детей. Где эти дети? Куда делись эти смеющиеся, открытые лица?
Телефон снова ожил. Валентина вздрогнула. На экране высветилось имя: Андрей.
Она взяла трубку.
‒ Мать, ‒ голос сына был сухой, деловой, без приветствия. ‒ Ты дома?
‒ Да, Андрюша.
‒ Слушай, скинь тридцать тысяч на карту. Срочно надо. Кириллу в лагерь путевку покупаем. Лариса сказала, там последние места, до вечера надо оплатить.
Тридцать тысяч. Валентина почувствовала, как у нее немеют пальцы.
‒ Андрей, но у меня нет таких денег…
‒ Как нет? Ты же сегодня пенсию получила.
‒ Пенсия шестнадцать тысяч, сынок.
‒ Ну и что? У тебя же есть накопления. Мать, это для Кирилла. Для твоего внука. Ты что, не хочешь, чтобы ребенок отдохнул? Или тебе жалко?
Накопления. Три тысячи двести рублей в конверте под матрасом. Это на холодильник. Это ее последняя надежда, что она сможет спать по ночам без этого чудовищного грохота.
‒ Андрюша, я не могу сейчас…
‒ Да ладно тебе! ‒ в голосе сына появилось раздражение. ‒ Чего ты там можешь или не можешь? Сидишь одна в своей хрущевке, ни на что не тратишься. На что тебе деньги? Вечером заеду, отдашь. Все, мне некогда.
Он повесил трубку.
Валентина Семеновна продолжала сидеть, держа телефон в руке. В квартире стояла гробовая тишина. Часы на стене тикали. Холодильник грохотал. Где-то за стеной ругались соседи.
Она посмотрела на свои руки. Старые руки, в венах, в пигментных пятнах. Эти руки работали на двух работах после смерти мужа. Днем она сидела бухгалтером в ЖЭКе, вечерами подрабатывала надомным счетоводом в продуктовом магазине. Она носила сумки с продуктами, стирала, гладила, варила, убирала. Она латала Андрюше штаны, потому что новые купить было не на что. Она перешивала Ольге свои старые платья, чтобы девочка ходила опрятной. Она откладывала каждую копейку, чтобы дети поступили в институты. И они поступили. Андрей стал менеджером, Ольга получила диплом администратора.
А она стала банкоматом.
Валентина встала и подошла к окну. Внизу, во дворе, молодая мама катила коляску. Женщина улыбалась, наклонялась к коляске, что-то говорила малышу. Валентина вспомнила, как сама катала такую коляску. Как она была счастлива. Как мечтала, что дети вырастут, станут хорошими людьми, будут заботиться о ней.
Финансовая эксплуатация пожилых родителей. Она как-то прочитала эти слова в газете и не поняла тогда. Как можно эксплуатировать родителей? Это же семья. Это же любовь.
Теперь она понимала.
Она вернулась к столу и открыла старый блокнот, куда записывала расходы. Листала страницы. Вот январь прошлого года: Андрею сорок пять тысяч на ремонт машины. Ольге двадцать тысяч на зубы. Март: Андрею тридцать тысяч на первый взнос за новый холодильник, который он так и не купил, зато через неделю выложил фотографии с горнолыжного курорта. Май: Ольге пятнадцать тысяч на съем квартиры. Июль: Андрею двадцать тысяч на детский лагерь, который, как выяснилось позже, стоил десять. Октябрь: Ольге двенадцать тысяч на штраф. Ноябрь: Андрею…
Она закрыла блокнот. Считать не было смысла. За год ушло больше двухсот тысяч. Больше, чем вся ее годовая пенсия.
А им мало.
Валентина села на диван и посмотрела на торт. Маленький, скромный торт. Она купила его для себя. Потому что хотела. Просто хотела чего-то сладкого в своей жизни.
И тут она почувствовала это.
Ярость.
Не горячую, не бурлящую. Холодную. Четкую. Как кусок льда в груди. Она смотрела на торт и понимала: она устала. Устала от звонков в день пенсии. Устала от слов «ты же не оставишь», «ты же мать», «для внука жалко». Устала быть нужной только тогда, когда кому-то нужны деньги.
Она взяла телефон и открыла контакты. Нашла имя: Анна Михайловна Белова. Соседка с пятого этажа. Юрист. Строгая женщина лет сорока пяти, которая однажды, встретив Валентину в подъезде с заплаканными глазами после очередного звонка Ольги, сказала: «Валентина Семеновна, вы позволяете себя использовать. Когда устанете, приходите. Я помогу».
Валентина тогда обиделась. Какое использование? Это же ее дети.
Теперь она набрала номер.
‒ Анна Михайловна? Это Валентина Семеновна из сорок третьей квартиры. Вы… вы помните наш разговор в подъезде? Вы были правы. Я готова.
На том конце провода повисла короткая пауза.
‒ Приходите сегодня вечером, ‒ сказала Анна спокойно. ‒ В восемь. Принесите все документы на квартиру и все, что касается денег. Записи, если есть. И приготовьтесь к тому, что будет тяжело.
‒ Уже тяжело, ‒ ответила Валентина тихо.
Она положила трубку и взяла со стола календарь. Нашла день получения следующей пенсии и зачеркнула его красной ручкой. Потом открыла телефон и начала печатать одинаковое сообщение Андрею и Ольге: «Приезжайте завтра в 18:00. Не за деньгами. За правдой».
Нажала «отправить».
Села и посмотрела на торт.
Отрезала себе кусок. Взяла вилку. Медленно поднесла ко рту.
Торт был сладкий, медовый, с тонким ароматом ванили.
Впервые за много лет Валентина Семеновна ела что-то только для себя. И плакала. Но это были не слезы слабости. Это были слезы ярости. И свободы.
***
Вечером, ровно в восемь, Валентина Семеновна поднялась на пятый этаж. Дверь квартиры сорок семь открылась сразу, будто Анна Михайловна ждала за ней.
‒ Проходите, ‒ сказала она коротко.
Квартира Анны была полной противоположностью жилищу Валентины. Здесь не было бабушкиных ковров на стенах, старых сервантов и засушенных цветов под стеклом. Светлые стены, минимум мебели, книжные полки от пола до потолка, большой письменный стол с ноутбуком. Пахло кофе и свежестью.
‒ Садитесь, ‒ Анна указала на удобное кресло возле стола. ‒ Кофе будете?
‒ Спасибо, ‒ Валентина опустилась в кресло, сжимая в руках папку с документами.
Анна налила две чашки, поставила одну перед гостьей и села напротив. На ней были домашние джинсы и серая водолазка. Волосы собраны в хвост. Без макияжа. Лицо строгое, умное, немного усталое.
‒ Итак, Валентина Семеновна, расскажите все по порядку, ‒ Анна достала блокнот и ручку. ‒ Как давно это происходит? Как часто они просят деньги? Сколько за последний год?
Валентина начала рассказывать. Сначала сбивчиво, потом все увереннее. Рассказала про звонки в день пенсии, про «займы», которые никто никогда не возвращал, про накопления, которые уходили на чужие ремонты и отпуска. Про то, как Андрей продал дачу, которую они с мужем строили двадцать лет, даже не спросив ее. «Мать, тебе же там не жить, зачем она тебе? А мне деньги на квартиру нужны». Дача стоила тогда полтора миллиона. Андрей дал ей сто тысяч. «На, купи себе что-нибудь». Она не купила. Отложила эти деньги. Потом Ольга попала в аварию, нужно было платить за ремонт чужой машины. Сто тысяч ушло за неделю.
Анна слушала и записывала. Ее лицо оставалось спокойным, но глаза темнели.
‒ Документы на дачу у вас были? ‒ спросила она.
‒ Да. Оформлена была на меня и на мужа. После его смерти я вступила в наследство. Но Андрей сказал, что раз это наследство отца, значит, и его тоже. Что он имеет право. Я тогда подумала… ну, может, и правда имеет? Он же сын.
‒ Сын не имел права продавать дачу без вашего согласия, ‒ сказала Анна сухо. ‒ Это незаконная сделка. Ее можно было оспорить.
‒ Я не знала, ‒ прошептала Валентина.
‒ Знаю. Поэтому сейчас я вам все объясню, ‒ Анна открыла ноутбук. ‒ Мы сделаем две вещи. Первое: оформим договор пожизненного содержания с иждивением. Это когда вы передаете квартиру другому лицу, а это лицо обязуется содержать вас до конца жизни. Кормить, одевать, лечить, ухаживать. Я готова стать этим лицом.
‒ Но вы же чужая, ‒ Валентина растерянно посмотрела на нее. ‒ Мы почти не знакомы.
‒ Я знакома с такими ситуациями, ‒ ответила Анна. ‒ Моя тетя прошла через то же самое. Ее дети выжали из нее все, а когда она заболела, хотели сдать в дешевый интернат. Я тогда была молодым юристом, только начинала практику. Не смогла ей помочь. Она умерла в том интернате через полгода. С тех пор я помогаю таким людям, как вы. Бесплатно.
Валентина молчала. В горле снова стоял ком.
‒ Второе, ‒ продолжила Анна, ‒ мы соберем на ваших детей досье. Все переводы, все сообщения, все доказательства того, что они систематически выманивали у вас деньги. Когда они узнают о договоре, а они узнают, они попытаются его оспорить. Пойдут в суд. Скажут, что вас ввели в заблуждение, что вы недееспособны, что я злоумышленница. Мы должны быть готовы.
‒ Они правда пойдут в суд? ‒ прошептала Валентина. ‒ На меня?
‒ Пойдут, ‒ Анна посмотрела ей в глаза. ‒ Не на вас. На квартиру. Для них вы уже давно не мать. Вы ресурс. И когда ресурс начинает сопротивляться, его пытаются сломать.
Валентина почувствовала, как внутри снова поднимается та самая холодная ярость.
‒ А что еще мне делать? ‒ спросила она тихо.
‒ Уехать, ‒ Анна достала из ящика стола несколько буклетов. ‒ На месяц. В санаторий. Я знаю хорошее место в Подмосковье, «Сосновая роща». Недорого, но достойно. Чистый воздух, сосны, лечебные процедуры. Вы отдохнете. Наберетесь сил. А я пока оформлю все документы и подготовлю защиту.
‒ Но у меня нет денег на санаторий, ‒ Валентина беспомощно развела руками.
‒ Есть, ‒ Анна открыла один из буклетов. ‒ У вас есть вещи. Я видела, в вашей квартире висит икона. Старинная, судя по окладу. И в серванте стоит сервиз, довоенный. Это можно продать. Не за копейки, а за нормальные деньги, через хорошего оценщика. На санаторий хватит, и еще останется. Это будут ваши деньги. Чистые. Честные.
Валентина вспомнила икону. Это была Казанская Божья Матерь в серебряном окладе, доставшаяся ей от бабушки. Она висела над кроватью. Валентина молилась перед ней каждый вечер. Молилась за детей. За внука. За себя.
‒ Икону жалко, ‒ призналась она. ‒ Это память.
‒ Память о ком? ‒ спросила Анна мягко. ‒ О бабушке, которая любила вас? Или о детях, которые используют вас?
Валентина молчала.
‒ Вы можете оставить икону, ‒ продолжила Анна. ‒ Продать только сервиз. Но тогда денег хватит только на две недели в санатории, не на месяц. И вам придется вернуться раньше. В разгар войны.
‒ Продам, ‒ сказала Валентина. ‒ И икону, и сервиз. Вы правы. Это просто вещи.
Анна кивнула и сделала пометку в блокноте.
‒ Еще один момент, ‒ она посмотрела на Валентину серьезно. ‒ Вы должны понимать: когда ваши дети узнают, что вы не дали им денег, они придут. Они будут давить. Кричать. Манипулировать. Оля, судя по вашему рассказу, будет плакать и играть на жалости. Андрей будет угрожать и давить авторитетом. Они могут привести внука, чтобы он попросил за них. Вы должны быть готовы ко всему.
‒ Я готова, ‒ Валентина сжала кулаки. ‒ Я больше не хочу бояться собственных детей.
‒ Хорошо, ‒ Анна встала и протянула руку. ‒ Тогда завтра утром приносите икону и сервиз. Я отвезу их к оценщику. Послезавтра начнем оформление договора. А вы напишите детям, когда именно хотите с ними встретиться.
‒ Я уже написала, ‒ Валентина тоже встала. ‒ Завтра в шесть вечера. Они придут.
‒ Отлично, ‒ Анна улыбнулась впервые за весь вечер. ‒ Значит, завтра будет генеральное сражение.
Валентина вышла из квартиры Анны Михайловны в половине десятого. Спускалась по лестнице медленно, держась за перила. В голове был туман. Что она наделала? Она продаст бабушкину икону. Она отберет у детей квартиру. Она, пожилая женщина, мать двоих взрослых детей, пойдет против собственной семьи.
Она зашла в свою квартиру и сразу увидела икону. Казанская Божья Матерь смотрела на нее со стены спокойно и печально.
‒ Прости, ‒ прошептала Валентина. ‒ Но мне нужно выжить.
Она сняла икону и положила на стол. Потом достала из серванта сервиз. Двенадцать тарелок, шесть чашек, молочник, сахарница. Фарфор тонкий, почти прозрачный, с синими цветами. Довоенный. Мама берегла его всю жизнь, доставала только по праздникам. Валентина тоже берегла. Дети ни разу не спросили, нужен ли он ей. Не спросили, хочет ли она его кому-то завещать. Они вообще не спрашивали ее ни о чем.
Она аккуратно уложила сервиз в коробку, завернула икону в полотенце.
Потом подошла к старому комоду, где хранились семейные реликвии, и достала маленькую шкатулку. Открыла ее. Внутри лежало обручальное кольцо. Простое, золотое, тонкое. Муж надел его на ее палец сорок пять лет назад. После его смерти она не могла его носить, было слишком больно. Она хранила кольцо, как самую дорогую память.
Валентина взяла кольцо, повертела в руках. Потом надела на палец. Посмотрела. Кольцо было ей немного велико, палец истончился с возрастом.
Она сняла кольцо и положила в карман халата.
Завтра она отнесет его в ломбард.
Не ради денег. Денег от кольца было бы совсем немного.
Ради символа.
Она снимала кольцо со старой жизни. С жизни, где она была женой, матерью, бабушкой. Где она всегда ставила других на первое место. Где она думала, что любовь, это значит отдавать все.
Она ложилась спать в новую жизнь. В жизнь, где она имела право жить для себя.
***
На следующий день Валентина Семеновна провела в странной лихорадке. Утром отнесла икону и сервиз Анне Михайловне. Та уехала с ними к оценщику. В обед позвонила: «Сто двадцать тысяч. Согласны?» Валентина согласилась, хотя в горле снова встал ком. Сто двадцать тысяч за бабушкину икону и мамин сервиз. За память. За связь с прошлым.
Но это были ее деньги. Никто не знал о них. Никто не мог их попросить, выпросить, вытрясти.
После обеда она сходила в ломбард. Старый еврей в очках долго рассматривал кольцо, потом назвал сумму: четыре тысячи. Валентина кивнула. Взяла билет. Положила его в шкатулку, где лежало кольцо. Когда-нибудь она его выкупит. Но не сейчас. Сейчас ей нужно было отпустить прошлое.
К пяти вечера она накрыла стол. Не так, как обычно, с пирогами и салатами. Просто чай, печенье. И конверт. В конверте лежали деньги: шестнадцать тысяч ее пенсии и сто двадцать тысяч от продажи вещей. Сто тридцать шесть тысяч. Больше, чем она обычно имела за год.
Анна Михайловна пришла в половине шестого.
‒ Я посижу на кухне, ‒ сказала она. ‒ Молча. Они не должны знать, что я здесь. Но если что, я рядом.
‒ Спасибо, ‒ Валентина крепко сжала ее руку.
В шесть ровно позвонила Ольга. Она влетела в квартиру как ураган, в модной куртке, с огромной сумкой, вся в облаке сладких духов.
‒ Мамуль! ‒ она чмокнула Валентину в щеку. ‒ Ну что ты меня напугала своей эсэмэской? «За правдой»! Как в кино! Я чуть со страху не померла!
Она прошла в комнату, огляделась, поморщилась.
‒ Мам, ну когда ты уже сделаешь ремонт? Я тебе говорила, давай скинемся, обои поклеим хотя бы. А то у тебя тут как в музее. Кстати, а где блинчики? Ты же всегда блинчики делаешь, когда я приезжаю.
‒ Сегодня не до блинчиков, ‒ ответила Валентина и села на диван.
Ольга насторожилась. Что-то в голосе матери было не то. Она присела на край кресла, положила сумку рядом.
В дверь снова позвонили. Андрей. Он вошел хмуро, не раздеваясь, прошел в комнату, кивнул сестре.
‒ Ну, мать, чего срочного? ‒ он остался стоять, сунув руки в карманы куртки. ‒ Мне через час к Ларисе надо, у нас родительское собрание в школе.
‒ Садись, Андрей, ‒ сказала Валентина.
‒ Я постою.
‒ Садись, ‒ повторила она, и в ее голосе появилась сталь.
Андрей удивленно посмотрел на нее, но сел. Рядом с Ольгой, на диван.
Валентина смотрела на них. Вот они, ее дети. Оля в дорогой куртке, с маникюром, который стоил половину валентининой пенсии. Андрей в кожаных ботинках, с новым телефоном в руке. Они сидели в ее старой комнате, на ее старом диване, и смотрели на нее с нетерпением. Они хотели, чтобы она быстрее сказала, зачем позвала, и отпустила их в их жизни. В их взрослые, занятые жизни, где ей не было места.
‒ Я позвала вас, чтобы сказать одну вещь, ‒ начала Валентина медленно. ‒ Больше никаких денег.
Повисла тишина.
‒ Чего? ‒ переспросил Андрей.
‒ Больше никаких денег, ‒ повторила Валентина. ‒ Ни тебе, ни Оле. Никогда.
Ольга засмеялась. Неуверенно, высоко.
‒ Мам, ты чего? Это шутка, да? Какая-то странная шутка?
‒ Нет, ‒ Валентина взяла со стола конверт и положила его перед собой. ‒ Это не шутка. Вот моя пенсия. Шестнадцать тысяч рублей. ‒ Она достала из конверта одну пачку купюр. ‒ Это мои деньги. Я заработала их сорока годами труда. А вот это, ‒ она достала вторую, более толстую пачку, ‒ это деньги от продажи икоя и сервиза. Сто двадцать тысяч. Тоже мои.
‒ Ты продала бабушкину икону? ‒ прошептала Ольга, и в ее голосе появилось что-то похожее на ужас. ‒ И мамин сервиз?
‒ Продала, ‒ подтвердила Валентина. ‒ Потому что мне нужны деньги. На жизнь. На себя.
‒ Мать, ты сбрендила? ‒ Андрей подался вперед. ‒ На что тебе столько денег? Ты что, собралась на Мальдивы?
‒ В санаторий, ‒ ответила Валентина спокойно. ‒ На месяц. В «Сосновую рощу». Путевка стоит сорок тысяч. Остальное мне понадобится на жизнь, когда вернусь.
‒ Подожди, ‒ Ольга встала, подошла к столу. ‒ Подожди, мам. Это же шутка? Да? Ну, мы поняли, ты обиделась. Ты хотела нас проучить. Хорошо, мы виноваты. Я верну семь тысяч. Андрюха, ты тоже вернешь, правда?
Она посмотрела на брата. Тот молчал, глядя на мать.
‒ Дело не в семи тысячах, ‒ сказала Валентина тихо. ‒ И не в тридцати. Дело в том, что за прошлый год вы взяли у меня двести пятнадцать тысяч рублей. Это больше, чем вся моя годовая пенсия. Я не могу так больше.
‒ Двести пятнадцать тысяч? ‒ Андрей нахмурился. ‒ Бреши́т. Откуда такая цифра?
Валентина достала блокнот. Открыла его.
‒ Вот. По датам. По переводам. Хочешь, зачитаю?
‒ Да пошел ты со своим блокнотом! ‒ взорвался Андрей. ‒ Ты что, за мной шпионила? Записывала каждую копейку?
‒ Я всегда записываю расходы, ‒ ответила Валентина. ‒ Я бухгалтер. Это моя профессия.
Ольга опустилась обратно в кресло. Ее лицо побелело.
‒ Мама, ‒ сказала она тихо, и в ее голосе появились слезы. ‒ Мамочка, но я же не нарочно. У меня правда проблемы. Кредиты, квартира… Я же не виновата, что мне тяжело. Я одна. У меня нет мужа, нет поддержки. Только ты. Ты же не бросишь меня?
‒ Оля, ты зарабатываешь сорок тысяч в месяц, ‒ сказала Валентина. ‒ Ты тратишь половину на одежду и развлечения. Твоя квартира стоит сорок тысяч, хотя ты могла бы снимать за двадцать. Ты живешь не по средствам. И перекладываешь свои проблемы на меня.
‒ Так это что, теперь я виновата, что хочу жить нормально? ‒ Ольга вскочила. ‒ Что не хочу ютиться в какой-то дыре? Я молодая женщина! Мне тридцать девять лет! У меня должна быть жизнь!
‒ У меня тоже должна быть жизнь, ‒ ответила Валентина. ‒ И мне шестьдесят восемь. И моя пенсия, это все, что у меня есть. И я больше не могу делиться ею с вами.
‒ Ясно, ‒ Андрей встал. Лицо его было каменным. ‒ Значит, так. Значит, мы тебе не дети больше. Значит, тебе на нас наплевать.
‒ Наоборот, ‒ сказала Валентина, и голос ее дрогнул. ‒ Мне не наплевать. Поэтому я и говорю это. Потому что если я не остановлюсь сейчас, через год у меня не будет ничего. Ни денег, ни здоровья, ни сил. И тогда я стану вам обузой. Настоящей обузой.
‒ Ты уже обуза, ‒ бросил Андрей. ‒ Со своими звонками, со своими проблемами, со своей нытьем.
Валентина побледнела.
‒ Я никогда не ныла, ‒ прошептала она. ‒ Я всегда давала, никогда не просила.
‒ Да? ‒ Андрей шагнул к ней. ‒ А кто просил меня приезжать, когда у тебя кран подтекал? Кто просил Ольку сводить тебя к врачу? Кто заставлял нас чувствовать себя виноватыми, когда мы долго не звонили?
‒ Я просила, чтобы вы иногда приезжали не за деньгами, ‒ сказала Валентина тихо. ‒ А за мной.
‒ Ладно, хватит, ‒ Ольга взяла сумку. ‒ Поняли мы. Ты решила играть в сильную женщину. Ну и играй. Поживем, увидим, как ты запоешь, когда у тебя холодильник сдохнет и не на что будет новый купить.
‒ Я уже купила новый, ‒ ответила Валентина. ‒ Вчера. На деньги от сервиза. Привезут в понедельник.
Повисла долгая, тяжелая тишина.
‒ Еще одна вещь, ‒ сказала Валентина, и ее голос окреп. ‒ Я переписываю квартиру. По договору пожизненного содержания. На Анну Михайловну Белову. Соседку с пятого этажа. Юриста.
Если бы Валентина сказала, что продала душу дьяволу, эффект был бы меньше. Андрей застыл, побелев. Ольга открыла рот, но не смогла выговорить ни слова.
‒ Что… что ты сказала? ‒ прохрипел Андрей.
‒ Я переписываю квартиру по договору пожизненного содержания, ‒ четко повторила Валентина. ‒ Анна Михайловна будет о мне заботиться, а после моей смерти квартира перейдет к ней. Это законно. Это мое право.
‒ Это невозможно, ‒ прошептала Ольга. ‒ Это наша квартира. Наша! Мы здесь выросли!
‒ Это моя квартира, ‒ поправила Валентина. ‒ Оформленная на мое имя. Которую я получила после смерти мужа. У вас нет на нее никаких прав.
‒ Ты с ума сошла, ‒ Андрей схватил ее за плечо. ‒ Ты продала нашу квартиру какой-то чужой тетке! За что? За то, что она тебе мозги промыла?
‒ Андрей, отпусти меня, ‒ сказала Валентина холодно. ‒ Немедленно.
В кухне скрипнул стул. Анна Михайловна вышла в комнату. Она была одета строго, в черные брюки и белую блузку. Волосы убраны, лицо серьезное.
‒ Здравствуйте, ‒ сказала она спокойно. ‒ Я Анна Михайловна Белова. Юрист. Свидетель этого разговора. И я хочу предупредить вас, Андрей Викторович: если вы немедленно не отпустите свою мать, я вызову полицию и подам заявление о применении физического насилия.
Андрей разжал пальцы. Отшатнулся.
‒ Это вы, ‒ прошипел он. ‒ Это вы во всем виноваты. Вы развели мою мать на квартиру.
‒ Я помогла вашей матери обрести то, что она потеряла, ‒ ответила Анна. ‒ Достоинство. А квартира, это всего лишь формальность. Валентина Семеновна будет жить здесь до конца своих дней. Ни я, ни кто-либо другой не имеет права ее выселить. Такова суть договора пожизненного содержания.
‒ А мы этот договор оспорим, ‒ сказал Андрей. ‒ Через суд. Скажем, что мать недееспособна. Что вы ее обманули.
‒ Попробуйте, ‒ Анна улыбнулась, но улыбка была холодной. ‒ У меня есть медицинское заключение о полной дееспособности Валентины Семеновны. Есть свидетели, которые подтвердят, что она в здравом уме и твердой памяти. И есть записи ваших разговоров, где вы вымогаете у нее деньги. Так что если вы пойдете в суд, я встречно подам на взыскание с вас алиментов в пользу вашей матери. По закону дети обязаны содержать нетрудоспособных родителей. Валентина Семеновна, пенсионерка, подходит под эту категорию.
‒ Алиментов? ‒ Ольга истерично засмеялась. ‒ С нас? Ты что, сдурела?
‒ Я юрист, ‒ спокойно ответила Анна. ‒ Я не дура. И я очень хорошо знаю семейное право.
‒ Мамаша, ‒ Андрей повернулся к Валентине. Его лицо исказилось. ‒ Ты это серьезно? Ты хочешь через суд выбивать из нас деньги? Из своих детей?
‒ Я не хочу ничего выбивать, ‒ ответила Валентина устало. ‒ Я хочу, чтобы вы поняли: я не банкомат. Я человек. Ваша мать. И я имею право жить для себя.
‒ Жить для себя, ‒ повторила Ольга ядовито. ‒ Эгоистка. Обычная эгоистка. Нас растила, чтобы потом предать.
‒ Я не предавала вас, ‒ сказала Валентина, и в ее голосе зазвучали слезы. ‒ Вы предали меня. Когда перестали видеть во мне мать. Когда стали видеть только деньги.
‒ Ты пожалеешь об этом, ‒ бросил Андрей. ‒ Очень пожалеешь.
Он развернулся и вышел, хлопнув дверью так, что задрожали стекла.
Ольга осталась стоять. Она смотрела на мать, и по ее щекам текли слезы. Не притворные, а настоящие.
‒ Я не думала, что ты способна на такое, ‒ прошептала она. ‒ Я думала, ты меня любишь.
‒ Я люблю тебя, ‒ ответила Валентина. ‒ Но я больше не могу любить так, чтобы это меня убивало.
Ольга качнула головой, взяла сумку и пошла к двери. На пороге обернулась.
‒ Значит, так. Ты нам больше не мать. И мы тебе не дети. Живи одна. С этой своей юристкой. Может, она тебя хоть навестит, когда ты сляжешь.
‒ Навещу, ‒ сказала Анна спокойно. ‒ Обязательно навещу.
Ольга ушла. Дверь закрылась тихо. Но эта тишина была страшнее хлопка.
Валентина стояла посреди комнаты и смотрела на закрытую дверь. Потом медленно опустилась на диван. Анна села рядом, обняла ее за плечи.
‒ Сейчас вам будет плохо, ‒ сказала она тихо. ‒ Очень плохо. Но это пройдет. Обещаю.
‒ Это мои дети, ‒ прошептала Валентина. ‒ Я их родила. Выносила. Вырастила. Это мои дети.
‒ Знаю, ‒ Анна крепче обняла ее. ‒ Знаю.
Валентина заплакала. Не тихо, не сдержанно. Громко, навзрыд, как плачут, когда теряют что-то самое дорогое. Она плакала о детях, которых любила. О тех маленьких Андрюше и Оленьке с фотографии. О той дружной семье, которой они были когда-то. О том, что все это умерло, и она не заметила, когда именно.
Анна молча держала ее и гладила по спине, как маленькую.
А за окном сгущались сумерки, и город зажигал огни, и жизнь продолжалась, равнодушная к маленькой трагедии одинокой пожилой женщины, которая отважилась на войну с собственными детьми.
***
Через неделю Валентина Семеновна сидела в автобусе, который вез ее в санаторий «Сосновая роща». За окном мелькали подмосковные пейзажи: поля, перелески, деревеньки с покосившимися заборами. Март наконец сдавался, снег таял, проглядывала темная земля.
В сумке у Валентины лежала путевка, оплаченная на месяц вперед. В кошельке были деньги, оставшиеся от продажи икон и сервиза. На пальце не было обручального кольца, но она уже привыкла к его отсутствию. В телефоне висели непрочитанные сообщения от Ольги. Андрей не писал вообще.
Валентина не читала сообщения дочери. Не потому, что была зла. Потому что боялась. Боялась, что не выдержит, поддастся, вернется в старую колею. А ей нельзя было возвращаться. Она это понимала.
Автобус свернул с шоссе, проехал по узкой асфальтированной дороге между соснами и остановился возле двухэтажного здания с вывеской «Сосновая роща. Санаторий-профилакторий».
Валентина вышла из автобуса, и первое, что она почувствовала, это запах. Запах сосен, свежести, весны. Она глубоко вдохнула и закрыла глаза. Когда в последний раз она дышала таким воздухом? На даче? Но дачу продал Андрей много лет назад.
‒ Здравствуйте, вы к нам? ‒ к ней подошла молодая девушка в белом халате. ‒ Проходите, оформимся.
В холле пахло хвоей и чем-то лекарственным, но не больничным, а приятным. Стояли мягкие кресла, на стенах висели картины с лесными пейзажами. Из столовой доносился запах свежей выпечки.
Оформление заняло минут двадцать. Валентине дали ключ от номера на втором этаже, выдали график процедур, объяснили распорядок дня. Завтрак в восемь, обед в час, ужин в шесть. Процедуры с девяти до пяти. Тихий час не обязателен, но рекомендован.
Номер оказался маленьким, но уютным. Одна койка с чистым бельем, шкаф, тумбочка, телевизор, окно с видом на сосны. Собственный санузел, правда крошечный.
Валентина положила сумку на кровать, подошла к окну. За окном качались сосны, между ними мелькали белки. Солнце пробивалось сквозь ветки, бросая на снег кружевные тени.
Впервые за много лет Валентина Семеновна была одна. По-настоящему одна. Не в своей хрущевке, где стены помнили мужа и детей, где каждая вещь напоминала о прошлом. Здесь, в чужом месте, где никто ее не знал. Где она не была мамой, бабушкой, должником. Где она была просто Валентиной.
Она села на кровать и заплакала. Тихо, без рыданий. Просто слезы текли по щекам, одна за другой.
Она не знала, почему плачет. От облегчения? От одиночества? От страха перед будущим?
Наверное, от всего вместе.
Вечером в столовой Валентина познакомилась с соседкой по столику. Раиса Петровна, семьдесят два года, бывшая учительница из Коломны. Приехала подлечить суставы и отдохнуть от суеты. Была веселая, говорливая, в очках на цепочке и с розовым шарфиком на шее.
‒ А вы откуда, милая? ‒ спросила она, деловито намазывая масло на хлеб. ‒ Не из Москвы часом?
‒ Из Москвы, ‒ ответила Валентина. ‒ Район Северный.
‒ Ой, и я из Москвы родом! Из Коломны уехала двадцать лет назад к дочке, но так и не привыкла. Москва, она особенная. А вы что, совсем одна приехали? Без подруг?
‒ Одна, ‒ Валентина пригубила чай. ‒ У меня нет подруг. Некогда было подруг заводить.
‒ Работа? ‒ сочувственно кивнула Раиса Петровна. ‒ Понимаю. Я всю жизнь в школе проработала, тоже ни на что времени не было. Зато теперь вот, на пенсии, нагуливаюсь. Дочка, правда, говорит, что я слишком часто по санаториям таскаюсь. Деньги, мол, трачу. А я ей отвечаю: деточка, это мои деньги, моя пенсия, я заработала. Хочу, трачу на санатории, хочу, на театры. Вот!
Она победоносно стукнула ложкой по столу.
Валентина улыбнулась. Первый раз за неделю.
‒ Правильно делаете, ‒ сказала она тихо.
‒ А то! ‒ Раиса Петровна наклонилась к ней, заговорщически понизив голос. ‒ Вы знаете, сколько я встретила здесь женщин нашего возраста, которые всю жизнь отдали детям, а потом дети о них забыли? Много. Очень много. Одна тут была, Тамара Ивановна, помню. Так она мне рассказала: двоих детей подняла одна, мужа в сорок лет схоронила. Работала на трех работах. Все детям. Квартиру сыну купила, дочери свадьбу оплатила. А когда заболела, так они ее в дешевый пансионат сдать хотели. «Мама, понимаешь, у нас нет времени тобой заниматься». Хорошо, соседка заступилась, помогла. Но осадок остался. И Тамара Ивановна сюда приехала не лечиться. Отдыхать. От детей. Вы представляете?
Валентина представляла. Она очень хорошо представляла.
‒ А у вас? ‒ спросила Раиса Петровна. ‒ Есть дети?
‒ Были, ‒ ответила Валентина. ‒ Были.
Раиса Петровна внимательно посмотрела на нее, но расспрашивать не стала.
‒ Ну что, милая, ‒ сказала она мягко. ‒ Раз приехали сюда, значит, решили о себе позаботиться. И правильно. Мы с вами не вечные. Пока силы есть, надо жить. Для себя.
Для себя. Валентина повторила про себя эти слова и вдруг поняла, что не знает, как это. Жить для себя. Она всегда жила для кого-то. Для мужа. Для детей. Для внука, которого видела раз в год.
А для себя?
На следующий день начались процедуры. Массаж, хвойные ванны, лечебная физкультура. Врач, молодая женщина лет тридцати пяти, осмотрела Валентину и нахмурилась.
‒ Давление высокое, ‒ сказала она. ‒ Постоянно или скачет?
‒ Постоянно, ‒ призналась Валентина. ‒ Лет пять уже. Таблетки пью.
‒ А стресс есть в жизни?
Валентина усмехнулась. Стресс. Если бы она знала.
‒ Был, ‒ ответила она.
‒ Хорошо, что был, а не есть, ‒ доктор выписала какие-то назначения. ‒ Потому что давление, это не шутки. Инсульт может быть в любой момент. Вам нужно беречь себя. Отдыхать. Избегать потрясений. Я вам добавлю успокоительные процедуры. И побольше гулять. Воздух тут лечебный.
Валентина гуляла. Каждый день, после обеда. Надевала старую куртку и шла в лес по протоптанной тропинке. Сосны шумели, где-то стучал дятел, под ногами хрустел подтаивающий снег. Она шла и думала. О детях. О том, что она сделала. О том, правильно ли поступила.
А правильно ли?
Может, она действительно эгоистка? Может, нормальная мать никогда бы не отказала детям? Может, ей нужно было просто потерпеть, помочь еще раз, и еще, и еще, и тогда они бы увидели, как она их любит, и все было бы хорошо?
Но ведь не было хорошо. С каждым годом было все хуже. С каждым звонком. С каждым «мам, выручи». Она чувствовала, как тает, как исчезает, как превращается в безмолвный ресурс. Отношения с взрослыми детьми стали похожи на сделку: она дает деньги, они дают ей право называть себя матерью.
Это не любовь. Это сделка.
А она не хочет быть товаром.
На пятый день, когда Валентина возвращалась с прогулки, ей позвонил незнакомый номер. Она взяла трубку.
‒ Бабушка? ‒ голос Кирилла, ее внука. Мальчику было четырнадцать, голос ломался, звучал то низко, то высоко.
Сердце Валентины сжалось.
‒ Кирюша, ‒ прошептала она. ‒ Милый, как ты?
‒ Нормально, ‒ Кирилл замялся. ‒ Бабушка, я соскучился. Давно не виделись.
‒ Я тоже соскучилась, ‒ сказала Валентина. ‒ Очень.
‒ Слушай, бабуль, ‒ Кирилл понизил голос. ‒ Ну ты же знаешь, у меня телефон сломался. Вообще труба. Не работает. А папа сказал, что ты теперь богатая. Что продала какие-то иконы. Может, ты мне поможешь? Ну, на телефон? Мне просто неудобно без телефона, понимаешь? Все ребята с телефонами, а я один как лох.
Валентина остановилась посреди тропинки. Слушала дыхание внука в трубке. Слушала и понимала: это не Кирилл придумал позвонить. Это Андрей дал ему телефон, наказал попросить денег. И Кирилл позвонил. Потому что привык слушаться отца. Потому что его воспитали в потребительской атмосфере. Для него бабушка тоже была источником денег. Просто более редким, чем родители.
‒ Кирюша, ‒ сказала Валентина, и голос ее был тихим, но твердым. ‒ Милый мой. Я тебя очень люблю. Но телефон, это вопрос к твоим родителям. У меня нет лишних денег на телефон.
‒ Как нет? ‒ удивился Кирилл. ‒ Папа сказал, что у тебя теперь куча денег.
‒ У меня пенсия шестнадцать тысяч рублей в месяц, ‒ ответила Валентина. ‒ Это все мои деньги. Твой телефон стоит сорок тысяч. Это больше, чем вся моя пенсия.
‒ Ну так это ты могла бы накопить, ‒ Кирилл не понимал. ‒ Или вообще, кредит взять. Ты же бабушка.
Валентина закрыла глаза. Вот оно. «Ты же бабушка». Значит, ты должна.
‒ Кирилл, я не возьму кредит на твой телефон, ‒ сказала она. ‒ Прости.
На том конце повисла тишина. Потом она услышала голос Андрея, далекий, но отчетливый:
‒ Ну что, дала?
‒ Нет, ‒ ответил Кирилл. ‒ Говорит, денег нет.
‒ Врет старая, ‒ буркнул Андрей. ‒ Брось трубку.
Кирилл бросил. Валентина стояла, держа телефон у уха, и слушала гудки. Потом медленно опустила руку.
Ей было больно. Очень больно. Но она не пожалела о своем решении.
Потому что если бы она дала Кириллу денег, это не решило бы проблему. Это только подтвердило бы для мальчика: бабушка, это банкомат. Немного капризный, но если правильно нажать кнопки, выдает деньги.
Нет. Ей нужно было быть сильной. Даже если это было больно.
Валентина вернулась в санаторий, поднялась в свой номер и легла на кровать. Достала телефон. Открыла непрочитанные сообщения от Ольги.
Их было двенадцать.
«Мам, ну хватит обижаться».
«Мам, ну я поняла уже. Извини, ладно?»
«Мам, ты хоть жива там?»
«Мам, мне банк звонит. Просрочка по кредиту. Помоги, а?»
«Мам, я серьезно. У меня проблемы».
«Блин, ну ответь хоть!»
«Знаешь что, мамаша? Я тебя поняла. Живи как хочешь».
«Из-за тебя мой кредит просрочен! Мне звонят каждый день! Ты доведешь меня до петли, я серьезно!»
«Я больше не буду к тебе обращаться. Никогда».
«Надеюсь, ты довольна».
«Ненавижу тебя».
«Прости».
Валентина читала сообщения одно за другим, и внутри нее ничего не дрогнуло. Раньше она бы разрыдалась. Бы перевела деньги. Бы перезвонила, извинилась, пообещала помочь.
Теперь она просто закрыла переписку.
Она не ненавидела Ольгу. Она ее любила. Но любить не значит позволять себя уничтожать. И Валентине понадобилось шестьдесят восемь лет, чтобы это понять.
Она встала, подошла к окну. За окном садилось солнце, окрашивая сосны в золотой цвет. Где-то внизу смеялись люди. Жизнь продолжалась. И Валентина была частью этой жизни. Не чьим-то приложением. Не чьим-то ресурсом. Частью.
В тот вечер она впервые за много лет легла спать спокойно. Без тревоги. Без чувства вины. Просто закрыла глаза и уснула.
А наутро случилось то, чего она совсем не ожидала.
Она проснулась и захотела рисовать.
***
Валентина не рисовала лет тридцать. В юности она ходила в изостудию при Доме культуры, даже хотела поступать в художественное училище. Но потом она встретила мужа, вышла замуж, родила детей. Рисование отошло на задний план. Некогда было. Нужно было зарабатывать, растить, кормить. Кисти засохли, краски затвердели, альбомы пожелтели.
А теперь, проснувшись в санаторном номере под шум сосен, она вдруг остро, физически захотела рисовать. Захотела взять карандаш и перенести на бумагу то, что видит за окном. Золотые сосны. Белок. Весеннее солнце.
После завтрака она спустилась в холл и спросила у администратора:
‒ Извините, а в городе есть магазин канцтоваров?
‒ Есть, ‒ девушка улыбнулась. ‒ На автобусе минут двадцать. Хотите нарисовать что-нибудь?
‒ Да, ‒ Валентина улыбнулась в ответ. ‒ Давно хотела.
Она съездила в город, купила альбом, набор цветных карандашей, ластик. Вернулась в санаторий, поднялась в номер. Села у окна. Открыла альбом на первой странице.
И замерла.
Страница была белая, чистая, пустая. Как ее жизнь. Как ее будущее, которого она не знала. Она могла нарисовать на этой странице что угодно. Могла испортить, могла сделать красиво. Могла вообще не рисовать, оставить белой.
Выбор был за ней.
Валентина взяла карандаш. Провела первую линию. Неуверенную, кривую. Потом вторую. Третью. Постепенно из линий стала проступать сосна. Ствол. Ветки. Хвоя. Она рисовала медленно, с ошибками, но ей было все равно. Она рисовала не для кого-то. Для себя.
К обеду на странице красовалась корявая, но узнаваемая сосна. Валентина посмотрела на рисунок, и внутри нее что-то теплое и давно забытое шевельнулось. Радость. Чистая, детская радость от того, что ты создал что-то своими руками.
‒ Ого! ‒ Раиса Петровна, проходя мимо ее стола в столовой за обедом, заглянула в альбом. ‒ Вы рисуете? Как красиво!
‒ Да так, балуюсь, ‒ смутилась Валентина.
‒ Балуйтесь, милая, балуйтесь! ‒ Раиса Петровна присела рядом. ‒ Знаете, что я вам скажу? Многие женщины нашего возраста забывают, как это, баловаться. Делать что-то просто так, для удовольствия. Всю жизнь мы кому-то что-то должны. Работе, семье, детям. А себе? Себе мы не должны ничего. И это неправильно. Себе мы должны больше всего. Потому что если мы сами себе не обеспечим радость, кто нам ее обеспечит?
Валентина задумалась над этими словами. И поняла, что Раиса Петровна права.
Она рисовала каждый день. Сосны, белок, облака. Рисовала плохо, по-дилетантски, но с каждым разом чуть лучше. И с каждым разом чувствовала, как внутри нее оттаивает что-то, что было заморожено долгие годы. Ее собственное «я». Ее желания. Ее право на радость.
На второй неделе в санатории Валентина познакомилась с Ниной Григорьевной. Женщине было шестьдесят пять, она приехала из Твери, работала всю жизнь врачом. Была энергичная, прямая, с короткой стрижкой и пронзительными серыми глазами.
Они разговорились в бассейне, после процедур.
‒ Вы откуда? ‒ спросила Нина Григорьевна, растирая волосы полотенцем.
‒ Из Москвы.
‒ А-а, столичная! Я в Москве двадцать лет прожила, потом в Тверь вернулась. Тише там, спокойнее. А вы одна приехали?
‒ Одна, ‒ подтвердила Валентина.
‒ Дети не против?
Валентина помолчала. Потом ответила честно:
‒ Дети… мы поссорились.
‒ Из-за денег? ‒ спросила Нина Григорьевна прямо, без обиняков.
Валентина удивленно посмотрела на нее.
‒ Откуда вы знаете?
‒ А я доктор, ‒ Нина Григорьевна усмехнулась. ‒ Повидала за свою практику сотни таких случаев. Пожилые родители приходят на прием, жалуются на давление, на бессонницу, на тревогу. Начинаешь разбираться, а там одна и та же история: дети высасывают деньги. Причем не потому, что им реально плохо. А потому, что привыкли. Им кажется, что родители им должны. Всегда, до гроба. А то, что родители тоже люди, тоже хотят жить достойно, об этом никто не думает.
Валентина молчала. В горле снова стоял ком.
‒ Вы знаете, ‒ продолжила Нина Григорьевна, ‒ я своим детям сразу объяснила, когда они выросли: я вас вырастила, дала образование, поставила на ноги. Теперь вы взрослые. Я вас люблю, но жить за вас не буду. Живите сами. У меня своя жизнь. Они сначала обиделись. Сын вообще два года со мной не общался. Но потом привыкли. И знаете что? Сейчас наши отношения намного лучше, чем были. Потому что они поняли: мама, это не обслуживающий персонал. Мама, это человек. Со своими желаниями, со своими правами.
‒ А как вы решились? ‒ спросила Валентина тихо. ‒ Сказать им это?
‒ А что решаться? ‒ Нина Григорьевна пожала плечами. ‒ Это моя жизнь. Я имею право жить ее так, как хочу. Пока не нарушаю закон и не вредю людям. А установить личные границы, это не вредить. Это заботиться о себе.
Личные границы. Валентина раньше читала это словосочетание в газетах, но не понимала. Что за границы? Это же семья, какие границы в семье?
Теперь она начинала понимать.
Граница, это то место, где кончается она и начинаются другие. То место, где она имеет право сказать «нет». Где она имеет право защитить себя.
И ей не нужно было стыдиться этого права.
‒ Спасибо, ‒ сказала Валентина. ‒ Вы очень мне помогли.
‒ Да ладно, ‒ Нина Григорьевна махнула рукой. ‒ Я просто говорю то, что вижу. А видела я много. И знаете, что хочу сказать? Не позволяйте никому, даже самым близким, делать из вас жертву. Жертвы всегда несчастны. И в итоге они никому не нужны. Даже тем, ради кого они жертвуют.
Эти слова Валентина запомнила. Записала себе в блокнот, чтобы не забыть.
На третьей неделе ей позвонила Анна Михайловна.
‒ Валентина Семеновна, как вы? ‒ голос Анны был спокойный, деловой. ‒ Отдыхаете?
‒ Отдыхаю, ‒ ответила Валентина. ‒ Рисую, гуляю. Здесь хорошо.
‒ Рада за вас, ‒ сказала Анна. ‒ Но нужно вернуться к делам. У меня новости. Ваши дети подали в суд. Требуют признать вас недееспособной и отменить наш договор.
Валентина почувствовала, как у нее похолодели руки.
‒ Когда суд?
‒ Через две недели. Как раз когда вы вернетесь. Я все подготовлю, не волнуйтесь. У нас есть медицинские справки, свидетели. И еще кое-что.
‒ Что?
‒ Запись, ‒ Анна помолчала. ‒ Помните, вы говорили, что Андрей с Ольгой встречались и что-то обсуждали? Я навела справки. Оказалось, они действительно встречались. У Андрея дома. И они не знали, что у соседки сверху, случайно, конечно, оказался включен диктофон на телефоне, который лежал на балконе. И этот диктофон записал их разговор.
‒ И что они говорили? ‒ прошептала Валентина.
‒ Я вам дам послушать, когда вернетесь, ‒ ответила Анна. ‒ Скажу только одно: они планировали не просто признать вас недееспособной. Они обсуждали интернат. Дешевый. Чтобы сэкономить. А квартиру хотели продать и поделить деньги.
Валентина закрыла глаза. В груди поднималась не боль. Не удивление. Просто холодная, тяжелая пустота.
Ее дети хотели сдать ее в интернат.
Ее дети, которых она родила, выносила, вырастила, хотели избавиться от нее, как от ненужной вещи.
‒ Валентина Семеновна, вы слышите меня? ‒ встревоженно спросила Анна.
‒ Слышу, ‒ ответила Валентина тихо. ‒ Анна Михайловна, сделайте все, что нужно. Я доверяю вам.
‒ Хорошо, ‒ Анна помолчала. ‒ Еще одно. Мы подадим встречный иск. О взыскании алиментов на ваше содержание. Я посчитала: исходя из их доходов, они должны будут платить вам примерно по пять тысяч рублей в месяц каждый. Это законно. Дети обязаны содержать нетрудоспособных родителей.
‒ Они возненавидят меня еще больше, ‒ сказала Валентина.
‒ Они уже ненавидят, ‒ ответила Анна жестко. ‒ Просто теперь у них будет причина делать это официально. Но вы получите деньги, которые вам законно причитаются. И это справедливо.
Валентина положила трубку и долго сидела на кровати, глядя в окно. Алименты. Она будет получать алименты с собственных детей. Как это звучит. Как это ощущается.
Страшно. Стыдно. Неправильно.
Но справедливо.
Потому что они брали у нее всю жизнь. И ничего не давали взамен. Даже элементарного уважения.
В последнюю неделю в санатории Валентина почти не выходила из номера. Она рисовала. Страница за страницей. Сосны, облака, солнце, белки. Рисовала и думала. О суде. О детях. О том, как она будет жить дальше.
Она не знала ответов на эти вопросы. Но она знала одно: назад пути не было. Она выбрала свой путь. И пройдет его до конца.
Даже если это будет больно.
Даже если она останется одна.
Потому что жизнь после 60, это не конец. Это начало. Начало жизни для себя.
***
Валентина вернулась в Москву в конце апреля. Город встретил ее теплом, распустившимися листьями, шумом машин. Анна Михайловна встретила ее у автобуса, помогла донести сумку до дома.
‒ Как съездили? ‒ спросила она, пока они поднимались по лестнице.
‒ Хорошо, ‒ ответила Валентина. ‒ Очень хорошо. Я даже не знала, что мне так нужен был отдых.
‒ Всем нужен отдых, ‒ Анна открыла дверь валентининой квартиры. ‒ Просто не все позволяют себе его взять.
Квартира встретила Валентину тишиной и запахом пыли. Она прошлась по комнатам, открыла окна. Все было на своих местах. Только на стене зияла пустота там, где висела икона. Валентина посмотрела на это пятно и ничего не почувствовала. Ни сожаления, ни боли. Просто пустое место. Как и должно быть.
‒ Через три дня суд, ‒ сказала Анна, садясь за стол. ‒ Я все подготовила. Вот копии документов. Вот медицинские справки о вашей дееспособности. Вот свидетельские показания соседей, которые подтвердят, что вы адекватны. И вот, ‒ она достала диктофон, ‒ запись разговора ваших детей.
Валентина взяла диктофон. Нажала кнопку воспроизведения.
Сначала был шум, шорох, потом голос Андрея:
«Ну и что мы будем делать с этой историей?»
Голос Ольги, нервный:
«Не знаю. Мама совсем ку-ку поехала. Квартиру чужой тетке отписала!»
Андрей, раздраженно:
«Я же говорил, надо было раньше озаботиться. Переписать квартиру на меня, пока она не спятила окончательно».
Ольга:
«А что теперь делать?»
Голос Ларисы, невестки:
«А что делать? Признавать недееспособной. У меня есть знакомый психиатр, он за три тысячи любую справку напишет. Мать старая, одна, деньги швыряет направо-налево, это явные признаки деменции».
Андрей:
«А если не получится?»
Лариса, уверенно:
«Получится. Главное, грамотно подать. Скажем, что она под влиянием соседки, что соседка ее обманула, втерлась в доверие. Суд на стороне родственников обычно. Опекуна назначат, квартиру вернут».
Ольга:
«И что потом? Она же с нами жить не будет».
Андрей, после паузы:
«А и не надо. Сдадим в интернат. Есть такие, по десять тысяч в месяц».
Ольга, неуверенно:
«Так они же, наверное, плохие? Такие дешевые?»
Андрей:
«А какая разница? Она там год-два проживет максимум. В ее возрасте, с ее давлением. Зато мы квартиру продадим, поделим. Мне как раз на погашение ипотеки хватит. А ты хоть какие-то кредиты закроешь».
Лариса:
«Правильно. Нечего сентиментальничать. Она вам мать, но это не значит, что вы обязаны всю жизнь на нее тратиться».
Ольга, тихо:
«Как-то… Как-то страшно. Это же мама».
Андрей:
«Мама сама выбрала. Хотела показать характер, вот и пусть расхлебывает».
Запись закончилась.
Валентина медленно опустила диктофон на стол. Руки дрожали. Не от слез. От ярости.
«Она там год-два проживет максимум».
«Зато мы квартиру продадим».
«Нечего сентиментальничать».
Это ее дети. Ее. Те самые малыши, которых она качала на руках, лечила, кормила, любила.
‒ Валентина Семеновна, ‒ Анна наклонилась к ней. ‒ Вам плохо? Давление?
‒ Нет, ‒ ответила Валентина тихо. ‒ Мне хорошо. Я просто поняла, что сделала все правильно.
Анна кивнула.
‒ Эту запись мы предъявим в суде. Она уничтожит их позицию полностью. И докажет, что вы поступили разумно, защищая себя.
‒ А как вы ее получили? ‒ спросила Валентина. ‒ Это же… это незаконно, подслушивать?
‒ Я ее не получала, ‒ Анна улыбнулась. ‒ Ее получила соседка Андрея, Вера Игоревна. Помните ее?
‒ Нет.
‒ Она вас помнит. Вы когда-то помогли ее матери, бесплатно сделали ей документы, когда она оформляла пенсию. Вера Игоревна работала в архиве, вы ей пакет документов через знакомых быстро оформили, без очередей. Она запомнила. И когда увидела в подъезде объявление о том, что я ищу информацию о недобросовестных родственниках пожилых людей, пришла ко мне. Рассказала, что слышала. И отдала запись. По собственной воле. Это законно.
Валентина молчала. Вспоминала ту женщину, ту давнюю историю. Сколько лет прошло? Лет двадцать. И женщина помнила. И помогла.
Добро возвращается. Иногда через много лет. Но возвращается.
За три дня до суда Валентине написала Ольга.
«Мам. Я узнала, что будет суд. Пожалуйста, не делай этого. Не позорь нас. Мы твои дети. Неужели ты хочешь судиться с нами? Ну хорошо, мы были неправы. Прости. Давай все отменим. Ты останешься в квартире, мы не будем больше просить денег. Только не суд. Пожалуйста».
Валентина читала сообщение и видела между строк не раскаяние. Страх. Ольга боялась суда. Боялась огласки. Боялась, что ее обяжут платить алименты.
Она не боялась потерять мать. Она боялась потерять деньги.
Валентина ответила коротко:
«Оля, я не хочу позорить вас. Я хочу защитить себя. И суд, это единственный способ».
Ольга больше не писала.
Утром в день суда Валентина проснулась в пять часов. Не могла спать. Лежала и смотрела в потолок. Думала о том, что сегодня она встанет перед судом против собственных детей. Будет рассказывать чужим людям о том, как ее использовали. Будет слушать, как ее дети называют ее сумасшедшей.
Это будет больно.
Но она выдержит.
Потому что правда на ее стороне.
***
Здание суда было серое, унылое, с длинными коридорами и запахом казенщины. Валентина вошла туда ровно за пятнадцать минут до начала заседания. Анна Михайловна шла рядом, в строгом черном костюме, с портфелем в руке. Они прошли через рамку металлоискателя, поднялись на третий этаж, нашли нужный кабинет.
Андрей и Ольга уже сидели на скамейке возле двери. С ними был адвокат, мужчина лет пятидесяти, в сером костюме, с папкой документов.
Когда Валентина появилась в коридоре, Ольга вскочила. Лицо ее было бледным, глаза красными.
‒ Мам, ‒ она шагнула к Валентине. ‒ Мам, ну пожалуйста. Давай не будем. Ну прости меня. Прости нас. Мы все поняли. Правда.
Валентина остановилась. Посмотрела на дочь. На ее дорогую сумку, на ее маникюр, на ее умело наложенный макияж. Ольге было тридцать девять. Она была взрослой женщиной. Но сейчас она выглядела как напуганный ребенок.
Валентине стало жаль ее. Но она ничего не сказала. Просто кивнула и прошла мимо.
Андрей сидел, сложив руки на груди. Смотрел в пол. Когда Валентина прошла мимо, он даже не поднял глаз.
‒ Прошу в зал, ‒ открылась дверь, вышел секретарь.
Они зашли в зал заседаний. Валентина и Анна сели по одну сторону, Андрей с Ольгой и их адвокат по другую. Между ними была пропасть. Не физическая. Эмоциональная.
Судья вошел минут через пять. Женщина лет пятидесяти, в мантии, с усталым лицом. Села за стол, открыла папку, посмотрела на присутствующих поверх очков.
‒ Слушается дело по иску граждан Морозова Андрея Викторовича и Морозовой Ольги Викторовны к гражданке Морозовой Валентине Семеновне о признании недееспособной и отмене договора пожизненного содержания с иждивением, ‒ зачитала она. ‒ Истцы присутствуют?
‒ Присутствуем, ‒ встал адвокат Андрея.
‒ Ответчик?
‒ Присутствует, ‒ поднялась Анна Михайловна.
‒ Хорошо. Слово истцам, ‒ судья кивнула.
Адвокат встал, прокашлялся, начал:
‒ Уважаемый суд. Мои доверители, дети Морозовой Валентины Семеновны, обратились в суд с иском о признании их матери недееспособной. Основания следующие: гражданка Морозова в силу возраста и психического состояния не способна адекватно оценивать свои действия. Находясь под влиянием третьих лиц, а именно гражданки Беловой Анны Михайловны, она заключила кабальный договор пожизненного содержания, по которому передала единственное жилье постороннему человеку. При этом гражданка Морозова имеет двоих детей, которые готовы заботиться о ней, но она игнорирует их мнение, ведет себя неадекватно, совершает необдуманные траты…
Он говорил еще минут десять. Валентина слушала и чувствовала, как внутри поднимается тошнота. Он говорил о ней как о беспомощной старухе, которую обвела вокруг пальца хитрая соседка. Он рисовал картину заботливых детей, которые переживают за мать, а мать их отвергает.
Ложь. Сплошная ложь.
Когда адвокат закончил, судья посмотрела на Анну:
‒ Ответчик желает дать пояснения?
‒ Да, ваша честь, ‒ Анна встала. ‒ Разрешите представить доказательства.
‒ Представляйте.
Анна достала из портфеля папку. Открыла ее.
‒ Во-первых, медицинское заключение о полной дееспособности Морозовой В.С. Обследование проводилось месяц назад, в санатории «Сосновая роща», где Валентина Семеновна проходила лечение. Заключение психиатра: гражданка Морозова в здравом уме, твердой памяти, способна принимать решения и нести за них ответственность.
Она передала документ секретарю. Тот передал судье.
‒ Во-вторых, ‒ продолжила Анна, ‒ показания свидетелей. Соседка гражданки Морозовой, Петрова Зинаида Васильевна, готова подтвердить, что Валентина Семеновна адекватна, самостоятельна, ухаживает за собой, общается с людьми. Также готовы дать показания врач из санатория и администратор.
‒ Вызовем свидетелей позже, ‒ кивнула судья. ‒ Что еще?
‒ В-третьих, ‒ Анна сделала паузу, ‒ финансовый отчет. Вот распечатки банковских переводов гражданки Морозовой за последние пять лет. Как видите, она регулярно переводила деньги своим детям. Суммы значительные. За прошлый год, двести пятнадцать тысяч рублей. При том, что ее годовая пенсия составляет сто девяносто две тысячи рублей.
В зале повисла тишина.
‒ То есть, ‒ судья подняла глаза на Андрея и Ольгу, ‒ ваша мать отдавала вам больше, чем зарабатывала?
Адвокат растерянно заерзал.
‒ Ваша честь, это… это не имеет отношения к делу. Мы говорим о дееспособности, а не о финансах…
‒ Имеет, ‒ перебила судья. ‒ Если человек способен вести финансовый учет, переводить деньги, он не может быть недееспособным. Продолжайте, ‒ она кивнула Анне.
‒ И наконец, ‒ Анна достала диктофон, ‒ запись разговора истцов, в котором они обсуждают план действий в отношении своей матери.
Она включила запись.
В зале стояла мертвая тишина. Все слушали. Судья, секретарь, адвокат. Слушали, как Андрей и Ольга обсуждали интернат, продажу квартиры, дележ денег.
Когда запись закончилась, Ольга плакала. Тихо, уткнувшись в ладони. Андрей сидел бледный, сжав челюсти.
‒ Где вы взяли эту запись? ‒ резко спросил адвокат. ‒ Это незаконное подслушивание!
‒ Это запись, сделанная соседкой истца на собственном балконе, ‒ спокойно ответила Анна. ‒ Она имела право записывать происходящее в своей квартире. И она добровольно предоставила запись суду.
‒ Но… но это…
‒ Это доказательство того, ‒ перебила Анна, ‒ что истцы действуют не из заботы о матери, а из корыстных побуждений. Они хотят признать ее недееспособной, чтобы завладеть ее квартирой. И это является основанием для отклонения иска.
Судья посмотрела на Андрея и Ольгу. Долго, молча.
‒ Истцы желают что-то добавить?
Адвокат растерянно посмотрел на своих клиентов. Андрей мрачно молчал. Ольга плакала.
‒ Нет, ваша честь, ‒ пробормотал адвокат.
‒ Хорошо, ‒ судья сделала пометку. ‒ Суд удаляется на совещание.
Перерыв длился двадцать минут. Валентина сидела в коридоре, не двигаясь. Анна стояла у окна, разговаривала по телефону. Андрей с Ольгой сидели в другом конце коридора. Между ними было метров десять, но казалось, что километры.
Когда судья вернулась, все зашли обратно в зал.
‒ Прошу всех встать. Именем Российской Федерации, ‒ судья начала читать решение. ‒ Рассмотрев материалы дела, заслушав стороны, изучив представленные доказательства, суд пришел к следующему выводу. Гражданка Морозова Валентина Семеновна является дееспособным лицом, что подтверждено медицинским заключением и свидетельскими показаниями. Договор пожизненного содержания с иждивением, заключенный ею с гражданкой Беловой А.М., является законным и добровольным. Оснований для признания гражданки Морозовой недееспособной не имеется. В удовлетворении иска отказать.
Она сделала паузу.
‒ Кроме того, суд принимает к рассмотрению встречный иск гражданки Морозовой В.С. о взыскании алиментов с детей, граждан Морозова А.В. и Морозовой О.В., на содержание нетрудоспособного родителя. Согласно статье 87 Семейного кодекса РФ, трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся родителей. С учетом материального положения сторон, суд постановляет: взыскать с Морозова А.В. и Морозовой О.В. в пользу Морозовой В.С. алименты в размере по пять тысяч рублей ежемесячно с каждого до изменения материального положения сторон. Решение вступает в силу через месяц.
Удар молотка.
‒ Заседание окончено.
Валентина сидела, не двигаясь. В ушах звенело. Она выиграла. Она доказала, что она не сумасшедшая. Что она имела право распоряжаться своей жизнью. Что ее дети не имели права использовать ее.
Анна Михайловна обняла ее за плечи.
‒ Поздравляю, ‒ сказала она тихо.
Валентина повернулась к ней. Хотела что-то сказать, но не смогла. Только закивала.
Они вышли из зала. В коридоре Андрей и Ольга стояли возле окна. Адвокат что-то объяснял им, размахивая руками. Ольга плакала. Андрей смотрел в окно, и лицо его было как камень.
Валентина прошла мимо них к выходу. На ступеньках суда ее окликнули:
‒ Мам!
Она обернулась. Ольга бежала за ней, спотыкаясь на каблуках. Остановилась в двух шагах.
‒ Мам, ну что ты наделала? ‒ она задыхалась. ‒ Теперь нам еще и алименты платить? У меня же долги! Я же не могу!
‒ Ты сможешь, ‒ сказала Валентина спокойно. ‒ Откажешься от дорогой квартиры, от новой одежды, от кафе. Будешь жить по средствам. Как я жила всю жизнь.
‒ Это несправедливо! ‒ крикнула Ольга. ‒ Я твоя дочь! Я не обязана тебя содержать!
‒ Обязана, ‒ Валентина посмотрела ей в глаза. ‒ По закону. Как и я была обязана тебя растить. И я это делала. Без упреков. Без счетов. А ты… ты даже спасибо не сказала.
Ольга открыла рот, но ничего не сказала.
К ним подошел Андрей. Остановился рядом с сестрой. Посмотрел на мать. Долго, молча.
‒ Значит, так, ‒ сказал он наконец. ‒ Все кончено.
‒ Да, ‒ ответила Валентина. ‒ Кончено.
‒ Мы больше не семья.
‒ Мы не были семьей уже давно, ‒ сказала Валентина тихо. ‒ Семья, это когда люди любят друг друга. Заботятся. Уважают. А мы… мы были кредитором и должниками. Я давала, вы брали. Это не семья.
Андрей стиснул зубы.
‒ Что будет дальше? ‒ спросил он. ‒ Мы платим тебе эти алименты, а ты живешь с этой своей юристкой и радуешься?
‒ Я живу для себя, ‒ ответила Валентина. ‒ И радуюсь жизни, которая у меня есть. Потому что я имею на это право.
Она развернулась и пошла к ждущей у края ступенек Анне Михайловне.
‒ Мама, ‒ окликнула Ольга. Голос ее дрогнул. ‒ Это правда все? Ты больше не хочешь нас видеть?
Валентина остановилась. Не оборачиваясь, ответила:
‒ Я хочу видеть своих детей. Тех, которых я родила и любила. Но их больше нет. Есть только вы. Взрослые, жестокие, равнодушные. И я не хочу видеть таких людей. Даже если они носят имена моих детей.
Она сделала шаг вперед. И еще один. Анна взяла ее под руку, и они пошли вместе вниз по ступенькам, прочь от здания суда.
Андрей и Ольга остались стоять на крыльце. Валентина не оборачивалась. Она знала, что если обернется, то может не выдержать. Может побежать обратно, обнять их, простить. Сказать, что все хорошо, что она не в обиде.
Но она не обернулась.
Потому что прощение без раскаяния, это не прощение. Это слабость. А она больше не хотела быть слабой.
Машина остановилась возле дома. Валентина вышла и посмотрела на знакомые хрущевки, на детскую площадку, на подъезд. Все было как обычно. Но что-то изменилось. Она изменилась.
Она больше не была той пожилой одинокой женщиной, которая боялась собственных детей. Она была женщиной, которая отстояла свое право на достоинство. На покой. На жизнь.
И это было самое важное.
‒ Валентина Семеновна, ‒ Анна остановилась у подъезда. ‒ Вам помочь подняться?
‒ Нет, спасибо, ‒ Валентина улыбнулась. ‒ Я сама. Спасибо вам. За все.
‒ Не за что, ‒ Анна пожала ей руку. ‒ Вы сами все сделали. Я только помогла.
Они попрощались. Валентина поднялась на свой третий этаж, открыла дверь квартиры. Зашла внутрь. Закрыла дверь за собой. Прислонилась к ней и глубоко вдохнула.
Тишина. Ее тишина. Ее покой. Ее жизнь.
Она прошла в комнату, открыла окно. За окном шумел город, ехали машины, кричали дети на площадке. Жизнь продолжалась.
Валентина достала телефон. Посмотрела на него. Никаких сообщений. Никаких звонков. Дети молчали.
Ей было грустно. Но не так больно, как она думала. Потому что она знала: она сделала правильный выбор. Единственный возможный выбор.
Она села за стол и открыла блокнот. Тот самый, куда записывала свои мысли в санатории. Перечитала последнюю запись: «Любить не значит позволять себя уничтожать».
Взяла ручку и дописала: «Иногда нужно отпустить тех, кого любишь, чтобы спасти себя».
Она закрыла блокнот. Встала и подошла к старому комоду. Достала шкатулку, где лежал билет из ломбарда. Посмотрела на него.
Завтра она пойдет и выкупит кольцо. Не ради прошлого. Ради будущего. Ради обещания самой себе: больше никогда не предавать свои границы. Не отказываться от своего достоинства. Жить для себя.
Она положила билет обратно. Подошла к окну. За окном садилось солнце, окрашивая небо в оранжевые и розовые тона. Где-то далеко ехали машины. Где-то жили люди. Где-то, может быть, ее дети тоже смотрели в окна и думали о ней.
А может, и нет.
Валентина закрыла глаза. Глубоко вдохнула. Выдохнула.
«Завтра будет тишина, ‒ подумала она. ‒ И это будет мой выбор».
Машина ехала по вечерней Москве. Анна Михайловна вела, Валентина сидела рядом и смотрела в окно. Огни города мелькали за стеклом. Люди спешили по своим делам. Жизнь кипела, шумела, продолжалась.
‒ Как вы себя чувствуете? ‒ спросила Анна.
‒ Странно, ‒ призналась Валентина. ‒ Как будто я потеряла что-то очень важное. Но в то же время как будто нашла.
‒ Вы нашли себя, ‒ сказала Анна тихо. ‒ Это дороже всего.
Валентина кивнула. Да, она нашла себя. Женщину, которая имеет право на покой. На радость. На жизнь без вечного чувства вины. На психологическую помощь пожилым, которую она получила сама и теперь понимала ее ценность.
Они доехали до дома. Валентина вышла из машины. Анна протянула ей руку.
‒ Если что-то понадобится, я всегда рядом, ‒ сказала она.
‒ Спасибо, ‒ Валентина крепко сжала ее руку. ‒ За все.
Она зашла в подъезд, поднялась к себе. Открыла дверь. Квартира встретила ее тишиной и покоем. Ее тишиной. Ее покоем.
Валентина прошла в комнату. Села у окна. Достала альбом, который начала в санатории. Открыла на чистой странице. Взяла карандаш.
И начала рисовать. Медленно, неуверенно, но с каждой линией все смелее. Она рисовала не сосны. Не белок. Она рисовала лицо. Свое лицо. Каким она его видела сейчас. С морщинами. С усталостью. Но со светом в глазах. Со светом, который она думала, что потеряла навсегда.
Она рисовала долго. Когда закончила, за окном была уже ночь. Валентина посмотрела на рисунок. Он был корявый, непрофессиональный. Но он был настоящий.
Как и она.
Настоящая. Свободная. Живая.
Она закрыла альбом. Встала. Подошла к зеркалу. Посмотрела на свое отражение. На седые волосы. На морщины. На глаза, которые больше не были испуганными.
«Здравствуй, ‒ сказала она своему отражению. ‒ Меня зовут Валентина. И я имею право жить для себя».
Она выключила свет. Легла в постель. Закрыла глаза.
И впервые за много лет уснула с мыслью не о том, что будет завтра, и не о том, кто позвонит и попросит денег.
А о том, что ей хотелось бы нарисовать утром. Может быть, весенний лес. Или первые цветы. Или просто небо. Светлое, чистое, бесконечное.
Ее небо. Ее выбор. Ее жизнь.