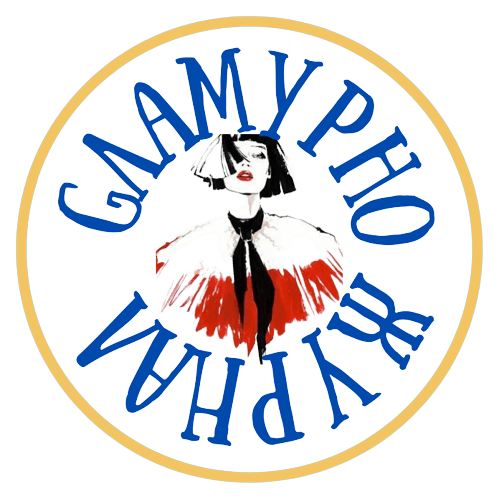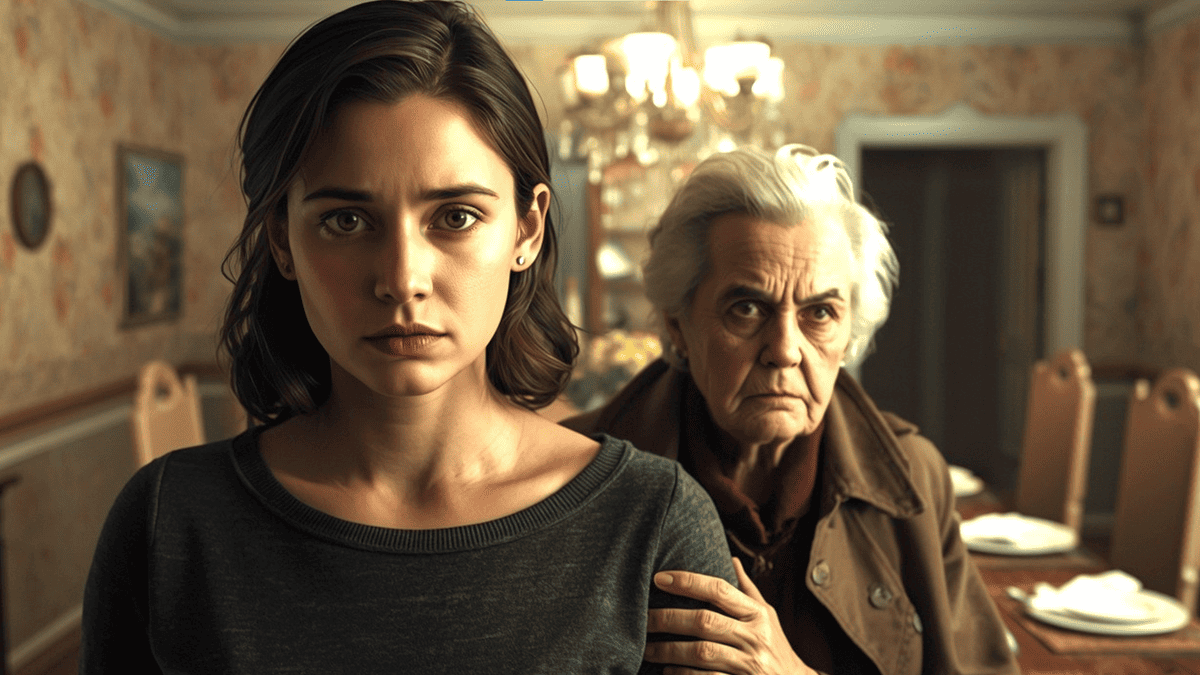Ольга притормозила у светофора и посмотрела на часы. Пятнадцать минут до двенадцати. Успевает. Всегда успевает, хотя каждый раз выезжает впритык, будто надеется, что пробка или поломка избавят ее от необходимости ехать. Но машина послушно везет ее по знакомому маршруту, мимо продуктового, мимо старой детской площадки, где она когда-то разбила коленку, мимо остановки, на которой стояла с чемоданом семь лет назад, когда съезжала.
Телефон завибрировал на пассажирском сидении.
– Ты где? Скоро? Суп остывает.
Ольга зажала трубку между ухом и плечом, переключая передачу.
– Еду, мам. Минут десять.
– Ну вот и хорошо. Папа уже за стол сел. Я пирог испекла, с капустой, как ты любишь.
– Спасибо.
– Только приезжай поскорее, а то все остынет совсем.
В голосе матери звучала та самая струнка, которую Ольга научилась распознавать еще в подростковом возрасте. Не раздражение, не злость. Напряжение. Словно мать ждала чего-то важного и боялась, что этого не случится.
– Еду уже, мам.
Ольга положила трубку на сидение и выдохнула. Три часа. Всего три часа в неделю она отдавала родителям, и каждый раз уговаривала себя, что это нормально, что это правильно, что так и должно быть. В двадцать пять лет, когда она наконец сняла эту маленькую однушку на окраине, ей казалось, что она вырвалась из клетки. Собственный ключ, собственная дверь, которую можно закрыть и знать, что никто не войдет без стука. Тишина по вечерам. Возможность лечь спать в два ночи или в девять вечера, не объясняя причин.
Семь лет прошло. Семь лет она каждое воскресенье приезжала к родителям на обед, и каждый раз, садясь в машину, чувствовала, как что-то внутри сжимается в комок.
Она припарковалась у подъезда, взяла с заднего сидения пакет с печеньем «Юбилейное» и поднялась на третий этаж. Знакомые ступени, исцарапанные перила, запах кошачьей мочи на площадке между вторым и третьим этажом. Ничего не менялось.
Дверь открылась раньше, чем она успела достать ключи.
– Оленька! Ну вот и ты. Заходи, заходи скорее.
Мать стояла в проеме, и Ольга сразу заметила новую помаду, слишком яркую, алую, которая старила лицо вместо того, чтобы молодить. Мать поправила волосы, уложенные в тугие волны, и шагнула в сторону, пропуская дочь.
Запах. Всегда этот запах встречал ее в родительской квартире. Пирог, жареный лук, что-то сладковатое, застоявшееся, исходящее от старого платяного шкафа в коридоре. Запах детства, который одновременно успокаивал и вызывал тоску.
– Привет, пап.
Отец вышел из комнаты, вытирая руки о штаны. Обнял дочь коротко, по-мужски, похлопал по спине.
– Привет, дочка. Как доехала?
– Нормально. Пробок не было.
Он кивнул и тут же отвел взгляд, будто ему было неловко смотреть ей в глаза. Ольга это заметила и насторожилась. Отец избегал зрительного контакта, только когда что-то не так.
– Ну что вы стоите в коридоре? Проходите за стол, все стынет, – мать уже суетилась на кухне, звенела тарелками, поправляла скатерть.
Ольга прошла в комнату, повесила куртку на спинку стула и села на свое обычное место. Стол был накрыт так, будто ждали гостей. Салаты в хрустальных розетках, которые доставали только по праздникам, пирог на большом блюде, графин с компотом.
– Мам, ты чего так расстаралась? Я же говорила, можно проще.
– Да какое проще! Ты раз в неделю приезжаешь, я хоть постараюсь. Ешь, ешь, пока горячее.
Мать разливала суп, и Ольга смотрела на ее руки. Узловатые пальцы, выступающие вены, блестящий лак на ногтях. Когда мать успела накрасить ногти? Она никогда этого не делала.
– Как у тебя на работе? Все нормально? – спросила мать, ставя тарелку перед дочерью.
– Нормально.
– А начальник твой, как его, Игорь Сергеевич, не придирается?
– Нет, мам. Все хорошо.
– А зарплату дали вовремя?
– Дали.
– Ну и хорошо. А то сейчас такие времена, мало ли что. А холодильник у тебя как? Не шумит? Ты говорила, он странно работает.
– Работает нормально, мам.
– А этот твой… как его… Максим? Не звонит?
Ольга сжала ложку. Максим. Максим, с которым она рассталась полгода назад, и о котором мать прекрасно знала, потому что Ольга ей об этом говорила. Дважды.
– Мы расстались, мам. Я тебе говорила.
– А, ну да. Я забыла. – Мать махнула рукой, но в ее голосе прозвучало что-то похожее на удовлетворение. – Ну и правильно. Он тебе не пара был. Я сразу это поняла.
Ольга промолчала. Спорить не было смысла. Никто никогда не был ей парой, по мнению матери. Ни Максим, ни Денис до него, ни Андрей, которого она любила в двадцать три года и которого мать методично и планомерно выживала из их жизни, пока Андрей не сдался и не исчез.
Они ели молча. Отец старательно жевал, глядя в тарелку, мать что-то говорила о соседке Валентине Ивановне, у которой украли кошелек в автобусе, о погоде, о том, что в магазине подорожал творог.
Ольга кивала, ела суп, который был действительно вкусным, и чувствовала, как напряжение в воздухе сгущается. Что-то было не так. Что-то висело над этим столом, над этим обедом, и она не понимала что.
– Оль, а ты пирог попробуй, – сказал отец, и в его голосе прозвучала почти мольба.
Она взяла кусок пирога, откусила.
– Вкусно.
– Правда? – Мать оживилась. – Я капусту по-новому потушила, с грибами. По рецепту из передачи. Там Юлия Высоцкая готовила.
– Очень вкусно, мам.
Мать улыбнулась, но улыбка не коснулась глаз. Она разливала компот, и Ольга заметила, как дрожат ее руки.
– Знаешь, Оленька, я тут с Галиной разговаривала, – начала мать, ставя графин на стол.
Галина. Подруга матери, с которой они вместе работали на заводе тридцать лет назад.
– И что Галина? – спросила Ольга, хотя не хотела спрашивать.
– А у нее дочка, Иришка, помнишь? Так вот, она вернулась к ним жить. Снимала квартиру, снимала, а потом подумала, зачем деньги выбрасывать, и вернулась. И знаешь, как им теперь хорошо! И весело, и экономно. Иришка деньги копит на машину, а так бы все хозяйке в карман ушло.
Ольга положила вилку. Вот оно.
– Мам…
– Да ты послушай, послушай! Они ремонт сделали на эти деньги. Обои переклеили, линолеум новый положили. Ванну поменяли. Красота теперь у них! А то жили, жили в старье, а тут раз, и за полгода все обновили.
– Мам, это их дело.
– Ну конечно их. Но и нам бы не помешало. – Мать говорила быстро, не глядя на дочь, будто боялась, что ее перебьют. – У нас крыша течет, ты же знаешь. Каждую весну потолок в пятнах. А стиральная машина наша, «Вятка» старая, скоро совсем сдохнет. Я уже мастера вызывала, он говорит, еще поработает, но долго не протянет.
– Я могу денег дать на машину, мам. Сколько нужно?
– Да не в этом дело! – Мать подняла голос, потом спохватилась и заговорила тише. – Не в этом дело, Оленька. Понимаешь, мы тут подумали с папой…
Отец поднял глаза, посмотрел на жену, потом на дочь, и снова уставился в тарелку.
– О чем подумали? – спросила Ольга, и ее собственный голос показался ей чужим.
Мать взяла салфетку, вытерла руки, хотя они были сухими, и посмотрела на дочь. В ее глазах плескалось что-то, похожее на решимость вперемешку со страхом.
– Зачем тебе, Оленька, выбрасывать пятнадцать тысяч каждый месяц? Это же целый ремонт за год выходит. Переезжай к нам. У нас просторно. Твоя комната как была, так и стоит. Мы ее не трогали. Все твое там. Эти деньги мы пустим на ремонт, тебе же лучше будет, новое все, красиво. И нам спокойнее, что ты не одна. А то мало ли что. Одинокая женщина в съемной квартире.
Тишина.
Ольга слышала, как тикают часы на стене. Старые часы с кукушкой, которые отец привез из командировки в Германию в девяностых. Тик-так. Тик-так.
– Мам, мне тридцать два года.
– Ну и что? – Мать вскинулась. – Что тридцать два? При чем тут возраст? Я не понимаю. Семья есть семья.
– У меня своя жизнь.
– Какая своя? – В голосе матери прорезалась тонкая, звенящая нотка. – В съемной конуре? Это не жизнь, Оленька. Это… это эгоизм. Мы тебя растили, вкладывались, институт оплачивали, а ты теперь отдалилась совсем. Только раз в неделю и видимся. Три часа. Ты считала? Три часа в неделю ты нам уделяешь.
– Мама, хватит.
– Не хватит! – Мать стукнула ладонью по столу, и компот в графине дрогнул. – Не хватит, Ольга! Ты вообще понимаешь, как нам тут? Как мне? Отец на работе с утра до вечера, я одна, как дура, целыми днями. О ком мне заботиться? Для кого стараться? Квартира пустая, холодная. А ты там, в своей однушке, живешь, как хочешь, и наплевать тебе на нас!
– Это неправда, – Ольга встала. – Я вам помогаю. Я деньги даю, когда нужно. Я каждую неделю приезжаю.
– Деньги! – Мать вскочила тоже. – Какие деньги? Ты пять тысяч раз в полгода дашь, и думаешь, этого достаточно? А пятнадцать тысяч каждый месяц чужой тете платишь! Ей можешь, а нам нельзя!
– Мама, я за квартиру плачу, а не ей в карман кладу!
– Вот именно! – Мать ткнула пальцем в воздух. – Вот именно! Квартира съемная! Не твоя! Чужая! А могла бы эти деньги нам отдавать, семье своей, и жить здесь, в нормальных условиях!
Ольга почувствовала, как у нее начинает трястись подбородок. Она вцепилась руками в спинку стула.
– Я не могу здесь жить, мам.
– Почему?
– Потому что мне нужно свое пространство. Понимаешь? Свое.
– Не понимаю! – мать кричала теперь уже не стесняясь. – Не понимаю я этого! Что за модные словечки, «пространство»! Семья должна быть вместе! Вместе! А ты убежала, отгородилась, живешь как чужая!
– Лида, – отец поднял голову, – Лида, успокойся…
– Не успокоюсь! – Мать развернулась к нему. – Ты молчал, молчал, а надо было сразу сказать, что это неправильно! Надо было не пускать ее тогда!
– Мне было двадцать пять лет, мама, – Ольга говорила медленно, стараясь не сорваться. – Двадцать пять. Я имела право съехать.
– Право! – Мать засмеялась, и смех этот был страшнее крика. – У тебя только права! А обязанности? А благодарность? Мы тебя вырастили, выучили, а ты!..
– Я вас люблю, мам. Но я не могу жить с вами под одной крышей. Я взрослый человек.
– Взрослый! – Мать подошла ближе, и Ольга увидела, что глаза у нее блестят, но не от слез. От ярости. – Взрослый человек семье должен помогать, а не на ветер деньги пускать! Пятнадцать тысяч каждый месяц! Это сто восемьдесят тысяч в год! Понимаешь? Сто восемьдесят тысяч, которые могли бы пойти на ремонт, на жизнь, на семью! На нас!
– Я предлагаю вам помощь, – Ольга старалась говорить спокойно. – Прямо сейчас. Сколько вам нужно на стиральную машину? На ремонт? Я дам.
– Не нужны мне твои подачки! – Мать отмахнулась. – Ты должна здесь жить! Здесь! С нами! Как нормальная дочь! А не приезжать раз в неделю, как в гости!
– Я не могу.
– Почему?!
Ольга молчала. Как объяснить? Как сказать матери, что она не может жить в этой квартире, потому что здесь нет воздуха? Что каждый раз, возвращаясь сюда, она чувствует, как стены сжимаются, как потолок давит на голову, как чужие правила, чужие представления о том, что правильно и что нет, проникают в каждую клетку тела?
Как сказать, что в четырнадцать лет мать читала ее дневники и устраивала допросы? Что в семнадцать отговаривала поступать в институт в другом городе, потому что «а вдруг что случится»? Что в двадцать три разрушила ее отношения с Андреем, потому что «он не из нашего круга»?
Как объяснить, что свобода, которую она получила семь лет назад, для нее дороже любых денег?
– Оленька, – отец заговорил, и голос его был хриплым, – может, и правда… Ну, хотя бы попробовать? Пожить с нами? Если не понравится, всегда можно…
– Пап, не надо, – Ольга посмотрела на него, и в его глазах увидела мольбу. Он просил ее согласиться. Не ради себя. Ради мира в доме.
И в этот момент что-то внутри нее переломилось.
– Нет, – сказала она тихо, но твердо. – Нет. Я не вернусь сюда жить. Никогда.
Мать замерла.
– Что?
– Я сказала нет. Я живу отдельно, и это мой выбор. Я вам помогаю, как могу. Я приезжаю каждую неделю, хотя это для меня непросто. Но я не вернусь сюда. Это моя жизнь, и я имею право ее прожить так, как считаю нужным.
– Виктор! – Мать резко обернулась к мужу. – Ты слышишь, что она говорит?! Ты слышишь?!
Отец молчал, глядя в стол.
– Виктор! Скажи ей! Скажи, что она не права!
Отец медленно поднял голову. Посмотрел на жену, потом на дочь. На его лице было написано столько усталости, столько безнадежности, что Ольге стало больно.
– Лида, – сказал он тихо, – хватит.
– Что?
– Хватит, я говорю. – Он повысил голос, и Ольга вздрогнула, потому что никогда, никогда за всю свою жизнь не слышала, чтобы отец повышал голос на мать. – Оставь дочь в покое. Она взрослый человек. У нее своя жизнь.
– Виктор…
– Нет, ты послушай! – Отец встал, и лицо его покраснело. – Ты меня послушай, Лида! Деньги на ремонт у нас есть! Я тебе говорил! Я откладывал! Но тебе мало! Тебе нужно, чтобы она здесь была, под контролем, чтобы ты знала, где она, с кем, что делает! Но ей тридцать два года! Она имеет право жить, как хочет!
Мать стояла, открыв рот. Потом ее лицо исказилось.
– Ты… ты на ее стороне?
– Я на стороне здравого смысла, – отец опустился на стул, будто разом обессилел. – На стороне здравого смысла, Лида.
Мать медленно обернулась к дочери. В ее глазах плескалось что-то страшное.
– Значит, так, – прошептала она. – Значит, вы оба против меня.
– Мам, нет…
– Молчи! – Мать подняла руку. – Молчи! Я поняла все. Ты предала меня. Вы оба предали.
Она схватилась за грудь, и лицо ее побелело.
– Сердце, – прохрипела она. – Сердце… Виктор… Таблетки…
Отец вскочил, бросился к шкафу, стал рыться в аптечке. Мать медленно сползла на пол, прижимая руки к груди, закатывая глаза.
– Мама! – Ольга кинулась к ней, но мать отшатнулась.
– Не подходи! – закричала она. – Не подходи ко мне! Убийца! Ты меня убиваешь!
– Скорую… Надо скорую… – бормотал отец, роняя на пол пузырьки с таблетками.
Ольга стояла над матерью и смотрела. Смотрела, как та лежит на полу, прикрыв лицо руками, как плечи ее вздрагивают. И сквозь пальцы, прикрывающие лицо, она увидела это.
Глаз. Один глаз матери, приоткрытый в щелке между пальцев, смотрел на нее. Холодно. Оценивающе. Проверяя реакцию.
Ольга сделала шаг назад.
Потом еще один.
– Оля, помоги! – отец стоял на коленях рядом с женой, пытаясь разжать ее руки.
– Нет, – сказала Ольга.
Голос ее прозвучал странно. Ровно. Почти безразлично.
– Что? – отец уставился на нее.
– Нет, – повторила она. – Все. Мама. Хватит.
Мать застыла. Руки ее дрогнули, но она не опустила их.
– Оля, ты что?! – отец побледнел. – Она больна!
– Она не больна, пап. – Ольга смотрела на мать, на ее руки, прикрывающие лицо, на напряженные пальцы. – Она играет. Как всегда.
Мать медленно опустила руки. Лицо ее было мокрым от слез, но в глазах стояло нечто такое, от чего Ольга почувствовала, как по спине пробежал холод.
– Ты… – прошептала мать. – Ты посмела…
– Я ухожу, – сказала Ольга. – Я ухожу, мама. И не знаю, вернусь ли когда-нибудь.
Она развернулась и пошла к двери. Руки тряслись так, что она с трудом попала в рукав куртки.
– Ольга! – кричал отец. – Оля, остановись!
Она открыла дверь.
– Оля, подожди! Она не хотела! Она просто… она боится одиночества, понимаешь? Она…
Ольга обернулась. Отец стоял в дверях комнаты, и по его лицу текли слезы.
– Прости, пап, – сказала она. – Прости. Но я не могу.
Она вышла и закрыла за собой дверь.
За дверью воцарилась тишина. Потом послышалось что-то, похожее на всхлип. Потом голос матери, визгливый, истеричный:
– И пусть уходит! Пусть! Неблагодарная! Всю жизнь на нее положила, а она! Видел?! Видел, как она со мной?!
Ольга стояла на лестничной площадке и слушала. Слушала, как мать кричит, как отец что-то бормочет, пытаясь успокоить. Слушала, как рушится то, что она строила семь лет: хрупкое равновесие, компромисс, возможность оставаться семьей, не живя вместе.
Потом она пошла вниз по лестнице, вышла на улицу, села в машину и поехала домой.
В квартире было тихо. Свет пробивался сквозь тюлевые занавески, на подоконнике стоял горшок с фиалками. Ольга сняла куртку, прошла на кухню, поставила чайник. Села за стол и уставилась в стену.
Она не плакала. Странно, но слез не было. Была пустота. Огромная, звенящая пустота, в которой медленно начинала разворачиваться боль.
Телефон завибрировал. Отец.
Ольга не взяла трубку.
Через минуту пришло сообщение: «Оля, прости. Мама не хотела. Она просто переживает. Позвони, пожалуйста».
Ольга отложила телефон.
Чайник закипел. Она заварила чай, села у окна. На улице шел дождь. Редкий, холодный, мартовский.
Следующие две недели прошли как в тумане. Ольга ходила на работу, делала свои дела, готовила ужин, ложилась спать. Отец звонил каждый день. Иногда она брала трубку, иногда нет. Когда брала, разговоры были короткими.
– Как ты?
– Нормально, пап.
– Мама… она плохо спит. Похудела. Спрашивает о тебе.
– Пап, я не могу.
– Она не хотела, Оль. Просто сорвалась. У нее климакс, понимаешь? Врач говорит, это гормоны. Она не со зла.
– Пап, она извинилась?
Молчание.
– Пап, она хоть раз сказала, что была не права?
– Оля, ты же знаешь ее. Она просто так не умеет. Но она переживает, правда переживает.
– Прости, пап. Мне пора.
Она клала трубку и садилась на диван, обхватив колени руками. В такие моменты квартира казалась огромной и пустой. Было страшно. Было одиноко. Но возвращаться назад было страшнее.
На третьей неделе позвонила мать.
Ольга увидела имя на экране и долго смотрела на него, прежде чем сбросить вызов.
Мать позвонила еще раз. И еще.
На четвертый раз Ольга взяла трубку.
– Алло.
– Оля, – голос матери был тихим, почти шепотом. – Оленька, родная.
Ольга молчала.
– Оль, ну скажи что-нибудь. Ну хоть что-нибудь.
– Что ты хочешь услышать, мама?
– Я… я хочу, чтобы ты приехала. Я соскучилась. Мы с папой соскучились.
– Мама, ты извиняешься?
Пауза.
– За что? – В голосе матери появились металлические нотки.
– За то, что было в прошлый раз.
– Оля, я же не хотела! Я переволновалась, сердце прихватило! Ты же видела!
– Я видела, мама. Я все видела.
– Что ты хочешь этим сказать? – Голос становился все выше. – Что я притворялась? Так, что ли?
Ольга закрыла глаза.
– Мама, я не вернусь к вам жить. Никогда. Это моя жизнь, и я имею право прожить ее отдельно. Если ты это не принимаешь, мы не можем общаться.
– Ты мне ультиматумы выставляешь? Своей матери?
– Я говорю правду.
– Какая правда! – Мать закричала. – Ты просто выросла эгоисткой! Я тебя такой воспитала? Я для этого жизнь на тебя положила?
– До свидания, мама.
– Оля! Не смей класть трубку! Оля!
Ольга отключила телефон и села на пол, прижавшись спиной к стене. Руки тряслись. Дышать было тяжело.
Но она не позвонила обратно.
Прошел месяц. Отец звонил по вечерам, когда мать не слышала. Говорил, что дома тяжело. Мать не готовит, почти не ест, сидит у телевизора и плачет. Винит во всем его, говорит, что это он Ольгу настроил против нее.
– Пап, а ты понимаешь, что она была не права? – спросила Ольга однажды.
Отец долго молчал.
– Понимаю, – сказал он наконец. – Но что я могу сделать, Оль? Она моя жена. Мы сорок лет вместе. Я не могу ее бросить.
– Я не прошу бросить. Я прошу поддержать меня. Хоть раз встать на мою сторону.
– Я и так встал. Ты же видела. Это мне теперь аукается каждый день.
Ольга сжала телефон.
– То есть ты жалеешь?
– Нет! Нет, Оль. Я не жалею. Просто… трудно. Понимаешь? Очень трудно.
– Понимаю, пап.
Они молчали, слушая дыхание друг друга через невидимый провод.
– Может, встретимся? – предложил отец. – Просто мы с тобой. Где-нибудь в кафе.
– Хорошо.
Они встретились в «Старом городе», маленькой кофейне на окраине, где отца точно никто не увидит. Он сидел у окна, и Ольга, войдя, едва узнала его. За месяц он постарел лет на десять. Седина, которая раньше мелькала в висках, теперь покрывала всю голову. Глаза ввалились. Руки лежали на столе, тяжелые, безжизненные.
– Пап, – Ольга обняла его, и он прижался к ней, как ребенок.
– Оленька, – прошептал он. – Доченька моя.
Они сели. Отец заказал кофе, Ольга чай. Молчали.
– Как ты? – спросил он наконец.
– Живу. Работаю.
– А как… в душе?
Ольга посмотрела в окно. За стеклом шел снег. Апрельский, мокрый, который тает, не долетев до земли.
– Тяжело, – призналась она. – Одиноко. Иногда мне кажется, что я сделала ошибку. Что надо было просто согласиться, переехать, и все было бы хорошо.
– Но ты знаешь, что это неправда, – сказал отец тихо.
Ольга кивнула.
– Знаю.
Они пили кофе. Отец положил на стол фотографию. Ольга взяла ее. Мать стояла на кухне, держа в руках деревянную ложку. Лицо осунувшееся, глаза красные. Она смотрела в камеру, и в этом взгляде было столько тоски, что Ольга почувствовала, как в груди заныло.
– Она плохо выглядит, – сказала она.
– Она плохо себя чувствует. – Отец забрал фотографию. – Она не понимает, Оль. Правда не понимает. Для нее семья это все. Она так воспитана. Ее мать так же жила, бабка так же. У них не было понятия о личном пространстве. Семья была главное.
– Я понимаю, пап. Но времена изменились.
– Она этого не принимает.
– А ты?
Отец посмотрел на нее.
– Я? Я всегда понимал. Но молчал. Потому что боялся. Боялся скандалов, боялся, что она заболеет, боялся остаться один. Трус я, Оль. Всю жизнь был трусом.
– Пап, не надо.
– Надо. Я должен был защитить тебя давно. Когда ты дневники писала, когда в институт поступала, когда Андрея к нам привела. Я все видел, понимаешь? Все. Но молчал. Думал, само рассосется. Не рассосалось.
Ольга взяла его руку.
– Я не виню тебя, пап.
– А надо было бы.
Они просидели еще час. Говорили обо всем и ни о чем. Когда прощались, отец обнял ее крепко, так, что Ольга почувствовала, как он дрожит.
– Я люблю тебя, доченька, – прошептал он. – Что бы ни случилось, помни: я тебя люблю.
– И я тебя, пап.
Он ушел, сгорбившись, засунув руки в карманы старой куртки. Ольга смотрела ему вслед и понимала: возврата нет. Мост сожжен. Семья, какой она была, перестала существовать.
Прошло еще три месяца. Лето пришло внезапно, жаркое, душное. Ольга работала, ходила с подругами в кино, убиралась в квартире. По выходным звонил отец, и они говорили о погоде, о работе, о новостях. О матери он упоминал редко, и Ольга не спрашивала.
Однажды вечером, в конце августа, раздался звонок в дверь. Ольга открыла и увидела отца. Он стоял на пороге с пакетом в руках, и лицо его было таким измученным, что она испугалась.
– Пап, что случилось?
– Ничего. Можно войти?
Она пропустила его. Он прошел в комнату, сел на диван, положил пакет рядом.
– Мама передала, – сказал он, кивнув на пакет.
Ольга заглянула внутрь. Там лежали баночки с вареньем, пирожки, завернутые в фольгу, и коробка с печеньем «Юбилейное».
– Она сама приготовила? – спросила Ольга.
– Сама.
– Почему не привезла сама?
Отец потер лицо руками.
– Гордая. Не может попросить прощения. Но… скучает. Очень скучает, Оль.
– А ты?
– Я просто устал.
Они сидели молча. За окном гудели машины, кто-то смеялся во дворе.
– Она изменилась? – спросила Ольга.
Отец покачал головой.
– Нет. Она все так же считает, что ты должна была переехать. Но… смирилась. Вроде как. Хотя иногда начинает, что вот, одна я, никому не нужная, дочь бросила.
– Я не бросала.
– Знаю. Я ей говорю. Не слышит.
Ольга встала, подошла к окну.
– Пап, а может, правда стоило? Переехать, сделать вид, что все хорошо, и жить дальше?
– Ты бы выдержала?
– Нет.
– Вот и ответ.
Отец ушел через полчаса. Ольга проводила его до двери, обняла.
– Передай маме спасибо, – сказала она. – За варенье.
– Передам. – Он помедлил. – Оль, а ты… ты приехать не можешь? Ну хоть раз? Она так ждет.
Ольга покачала головой.
– Не могу, пап. Не готова.
– Понимаю.
Он ушел, а Ольга осталась стоять в прихожей, глядя на закрытую дверь. В груди было тяжело. Вина грызла изнутри, но одновременно с ней жила твердая уверенность: она поступила правильно. Жестоко, больно, но правильно.
Осень пришла дождями и холодами. В октябре Ольга сменила работу, перешла в другую фирму, с лучшей зарплатой. Начала откладывать на свою квартиру. Маленькую, однокомнатную, но свою.
Отец звонил каждое воскресенье. Ровно в двенадцать. Они говорили минут пятнадцать, не больше. Иногда он передавал приветы от матери. Иногда говорил, что она спрашивает, как дела. Ольга слушала и отвечала, что все хорошо.
В ноябре отец предложил встретиться снова. Они сидели в том же кафе, пили тот же кофе. За окном падал снег, первый в этом году.
– Мама хочет позвонить тебе сама, – сказал отец.
Ольга застыла с чашкой в руках.
– Зачем?
– Поговорить. Просто поговорить.
– О чем?
Отец пожал плечами.
– Не знаю. Она не говорит. Но я вижу, как она собирается с духом каждый вечер. Берет телефон, смотрит на него, и откладывает.
– Если она позвонит, я возьму трубку, – сказала Ольга. – Но я не обещаю, что разговор будет долгим.
– Я понимаю.
Мать так и не позвонила. Прошел ноябрь, наступил декабрь. Новый год Ольга встречала с подругами, в шумной квартире, с шампанским и салатом «Оливье». Было весело, легко, но в полночь, когда все обнимались и поздравляли друг друга, она вышла на балкон и набрала номер отца.
– С Новым годом, пап.
– И тебя, доченька. – Голос его звучал устало. – Как ты?
– Хорошо. У подруг. А вы?
– Да так. Сидим. Телевизор смотрим.
– Передай маме… – Ольга замолчала, подбирая слова. – Передай, что я поздравляю.
– Передам. Она тут рядом. Хочешь, сама скажешь?
Сердце Ольги колотилось.
– Нет, пап. Не сейчас. Передай просто.
– Хорошо.
Она положила трубку и стояла на балконе, глядя на город, залитый огнями. Внизу взрывались петарды, люди кричали, смеялись. А ей было тихо и грустно.
Зима тянулась долго. В феврале Ольга заболела, лежала с температурой неделю. Отец узнал, предложил приехать, помочь. Она отказалась. Справилась сама.
В марте, ровно через год после того воскресенья, позвонил отец. В его голосе было что-то новое. Решимость.
– Оль, мне надо с тобой поговорить.
– Что случилось?
– Не по телефону. Давай встретимся.
Они встретились на следующий день. Отец сидел уже за столиком, когда она пришла. Перед ним стояла чашка нетронутого кофе.
– Пап, ты меня пугаешь. Что-то с мамой?
– С ней все нормально. Дело не в ней. – Он посмотрел на дочь. – Дело во мне.
Ольга села.
– Я ухожу, – сказал отец просто.
– Куда?
– От нее. От мамы. Я ухожу, Оль. Снял комнату, уже вещи собрал. Сегодня вечером скажу ей.
Ольга не могла вымолвить ни слова.
– Я знаю, это подло, – продолжал отец. – В нашем возрасте, после сорока лет вместе. Но я не могу больше. Понимаешь? Не могу. Она превратила дом в ад. Она винит меня во всем, что случилось с тобой. Говорит, что я тебя настроил. Говорит, что я плохой муж, плохой отец. И знаешь что? Может, она права. Но я устал. Я хочу просто тишины. Хочу приходить домой и не бояться, что сейчас начнется скандал.
– Пап…
– Я не прошу благословения. Не прошу понимания. Просто хочу, чтобы ты знала. И чтобы ты не думала, что это из-за тебя. Это не из-за тебя, Оль. Это из-за меня. Я просто выбрал наконец себя.
Ольга взяла его руку.
– Я понимаю, пап.
Он улыбнулся, и в этой улыбке было столько облегчения, что она почувствовала, как у нее защипало в носу.
– Спасибо, доченька.
Вечером того же дня позвонила мать. Ольга увидела имя на экране и, помедлив, взяла трубку.
– Алло.
Крик. Истерика. Рыдания.
– Он ушел! Понимаешь?! Твой отец ушел! Бросил меня! После сорока лет! Это все ты! Ты его настроила! Ты разрушила нашу семью!
Ольга молчала, слушая, как мать кричит, захлебывается словами, обвиняет.
– Ты довольна теперь?! Ты добилась своего?! Я одна! Совсем одна! И это твоя вина! Твоя!
– Мама, – сказала Ольга тихо, – это не моя вина. Это твоя.
Мать замолчала.
– Что?
– Я сказала, это твоя вина. Ты хотела контролировать нас обоих. Меня и папу. Хотела, чтобы мы жили так, как ты решила. Но мы люди, мам. Мы имеем право выбирать.
– Как ты смеешь! Как ты смеешь так говорить со мной!
– Я говорю правду. И если ты не примешь ее, ты так и останешься одна.
– Я уже одна! Благодаря тебе!
– Нет, мам. Благодаря себе.
Ольга отключила телефон и села на диван. Руки тряслись. Дышать было тяжело. Но внутри, где-то глубоко, было спокойно.
Она сказала. Наконец-то сказала.
Прошло полгода. Отец жил в съемной комнате, работал, иногда встречался с дочерью. Они ходили в кино, сидели в кафе, разговаривали. Он выглядел моложе, спокойнее. Улыбался чаще.
Мать не звонила. Ольга узнавала о ней от отца. Она жила одна, редко выходила из дома, почти ни с кем не общалась. Отец давал ей деньги, приезжал раз в неделю, проверял, все ли в порядке. Она встречала его молча, кивала, провожала до двери.
– Она меня ненавидит, – сказал отец однажды.
– Знаю, – ответила Ольга.
– Но я не могу вернуться.
– Знаю.
Они сидели на лавочке в парке. Сентябрь был теплым, золотым. Листья падали медленно, неторопливо.
– Ты счастлива? – спросил отец.
Ольга задумалась.
– Не знаю, пап. Но я спокойна. Впервые за много лет я просто спокойна.
– Это уже хорошо.
Воскресенье. Утро. Ольга сидела у окна с чашкой кофе и смотрела на дождь. За окном был октябрь, серый, промозглый. Люди бежали под зонтами, машины шуршали по мокрому асфальту.
Зазвонил телефон. Отец.
– Привет, пап.
– Привет, доченька. Как дела?
– Ничего. Работаю. Живу. А у вас?
– Да так же. – Пауза. – Оль, мама… она просила передать привет.
Ольга замерла с чашкой в руках.
– Правда?
– Правда. Я был у нее вчера. Она спросила, как ты. Я рассказал. А потом она сказала: передай привет. Тихо так сказала. Еле слышно.
Ольга смотрела в окно. Дождь усилился, капли стучали по стеклу.
– Передай и от меня, – сказала она.
– Передам.
Они помолчали.
– Оль, а ты… может, когда-нибудь… – Отец не закончил фразу.
– Не знаю, пап. Не знаю.
– Понимаю.
Они попрощались. Ольга положила телефон на стол и снова посмотрела в окно. За стеклом лил дождь. Город жил своей жизнью. Люди спешили куда-то, решали свои дела, радовались и страдали.
А она сидела в своей маленькой, тихой, пустой квартире и пила кофе. У нее не было семьи в том виде, в каком она знала ее раньше. Не было воскресных обедов, запаха пирогов, материнской суеты.
Но у нее был покой.
И свобода.
И право просыпаться в своей постели, варить свой кофе, смотреть в свое окно.
Она допила кофе, поставила чашку в раковину и включила музыку. Тихую, спокойную. За окном продолжал идти дождь, и ей вдруг стало легко.
Просто легко.
Она подошла к телефону, посмотрела на него. Набрала сообщение: «Пап, передай маме, что у меня все хорошо. Просто все хорошо».
Отправила.
И улыбнулась.
Дождь за окном шумел, как колыбельная. Квартира была пуста и тиха. Но в этой тишине, в этой пустоте было что-то правильное. Что-то свое.
Ольга включила ноутбук, открыла таблицу с расчетами. До своей квартиры оставалось накопить еще триста тысяч. Год, может, полтора.
Она будет ждать.
И копить.
И жить.
Просто жить.