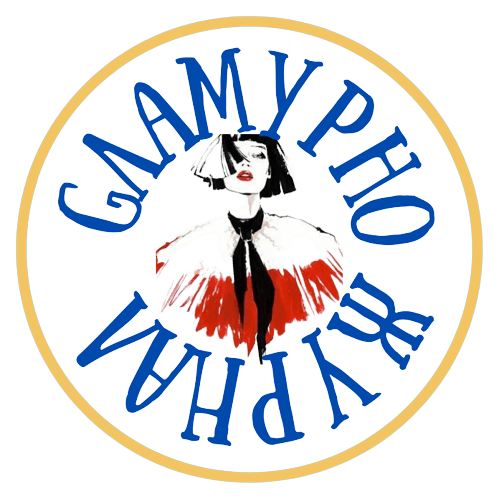Алина вошла без звонка. Она никогда раньше не входила без звонка, и уже одно это заставило Валентину Ивановну выйти из кухни с полотенцем в руках. Стояла февральская суббота, на улице было противно: мокрый снег, серое небо, ни утро уже, ни день. Такая погода, от которой хочется лечь на диван и не думать ни о чем.
Алина стояла в прихожей, расстегивая куртку одной рукой. Второй она держала что-то, завернутое в клетчатый плед. Что-то маленькое. Что-то, что шевелилось.
Валентина Ивановна потом говорила себе, что сразу поняла. Но это была ложь. Она не поняла. Она решила, что Алина подобрала котенка.
— Зайди в комнату, там теплее, — сказала она. — Ты с вокзала? Я поставлю чайник.
— Мам, — сказала Алина, и голос у нее был странный. Не злой, не ласковый. Просто голос человека, который долго нес что-то тяжелое и наконец поставил на землю. — Мам, это Миша.
Валентина Ивановна смотрела на сверток. Из пледа торчал маленький красный кулачок. Потом появилось личико, сморщенное, как старый гриб, с закрытыми глазами.
Она не помнила потом, что говорила. Кажется, что-то про чайник. Или про то, что надо снять мокрые сапоги. Она говорила что-то бессмысленное, пока голова пыталась сложить вещи в порядке: Алина уехала на практику четыре месяца назад. Алина звонила каждую неделю. Алина говорила, что все хорошо, что сессия сложная, что она уже соскучилась по домашнему борщу.
— Сколько ему? — спросила наконец Валентина Ивановна.
— Восемнадцать дней.
Восемнадцать дней. Значит, Алина звонила уже после. Звонила и говорила «все хорошо», когда у нее был восьмидневный ребенок. Семидневный. Пятидневный.
Они прошли в комнату. Алина положила Мишу на диван, обложила подушками с боков, выпрямилась и посмотрела на мать. Прямо посмотрела, не отводя глаз. Вот тут Валентина Ивановна увидела, что Алина изменилась. Похудела в лице. Под глазами было серо. Но держалась она так, как держатся люди, которые уже отбоялись.
— Ты должна была заметить, — сказала Алина. Не крикнула, не заплакала. Просто сказала, ровно и устало. — Когда я приезжала на ноябрьские, ты должна была заметить. Я была уже на шестом месяце, мам. На шестом.
Валентина Ивановна вспомнила ноябрьские. Алина приехала на три дня. Ходила в широком свитере, Валентина Ивановна еще подумала: выросла девка, раньше за фигурой следила, а теперь ходит как чучело. Они смотрели сериал, ели пельмени, Алина помогла разобрать балкон. Три дня, и уехала.
— Я думала, ты просто поправилась, — сказала Валентина Ивановна.
— Я знаю, что ты думала. Ты всегда думала о чем угодно, только не обо мне.
Это было несправедливо. Это было очень несправедливо, и Валентина Ивановна это знала. Но она промолчала, потому что в словах несправедливых часто есть такая крупица правды, которую очень неудобно признавать.
— Ты вечно была на работе, — продолжала Алина, и голос у нее немного дрогнул, самую малость. — Я приходила домой, ты уже спала. Или сидела над своими бумагами. Я в восьмом классе начала курить, ты заметила через полгода. Я в десятом классе не разговаривала с тобой две недели, ты не спросила, почему. Ты жила в своем мире, мама. И я привыкла, что тебе лучше не говорить. Что сама разберусь.
Миша пискнул с дивана. Алина повернулась к нему, поправила плед, и это движение было таким точным и уже привычным, что Валентина Ивановна поняла: она уже умеет. Уже научилась, пока жила где-то там одна с восьмидневным ребенком.
— Где ты была? — спросила она.
— У Маринки. С Ленинградки, помнишь, я рассказывала. Она хорошая, она помогала.
Маринка с Ленинградки. Какая-то подруга, которую Валентина Ивановна никогда не видела. Ее дочь рожала первого ребенка, и рядом была какая-то Маринка с Ленинградки.
Она пошла на кухню. Включила чайник. Встала у окна и смотрела на мокрый снег во дворе, который никто не убирал и который уже превратился в грязную кашу. Слышала, как Алина в комнате что-то тихо говорит Мише, какие-то звуки, не слова.
Валентина Ивановна стояла и думала о том, что она бухгалтер. Всю жизнь она складывала цифры, и у нее всегда сходилось. Дебет и кредит. Приход и расход. Но вот же, пожалуйста: дочь жила с ней под одной крышей семь лет, потом жила в общежитии и звонила каждую неделю, а она не знала про нее ничего. Совсем ничего. Какая математика тут поможет.
Когда она вернулась в комнату с двумя кружками, Алина сидела на диване, кормила Мишу. Это было так обыденно и одновременно так странно, что Валентина Ивановна просто поставила кружки на стол и отошла к окну. Смотрела во двор.
— Кто отец? — спросила она, не оборачиваясь.
Алина помолчала.
— Потом, мам. Не сейчас.
Валентина Ивановна кивнула, хотя Алина не могла этого видеть. Потом так потом. Тут торопиться было некуда.
Той первой ночью она долго не спала. Лежала, слушала, как в соседней комнате возится Миша, как Алина встает, шикает на него вполголоса. Думала, что надо купить кроватку. Думала, что надо позвонить Зинаиде Петровне из соседней квартиры, та своих внуков подняла почти одна и знает, что к чему. Думала про то, что Алина сказала. «Ты должна была заметить». «Ты жила в своем мире».
Было ли это правдой?
Да. Конечно, было. Только Валентина Ивановна всегда думала иначе. Она думала, что работает для того, чтобы у Алины было всё. Нормальная одежда, кружки английского, нормальная еда. Она думала, что это и есть любовь, когда пашешь так, что к ночи ноги не держат, но в холодильнике всегда есть творог и котлеты. Оказывается, нет. Оказывается, этого было мало.
Было ли это ее виной?
Вот тут она не знала. Вот тут цифры не сходились.
Пятнадцать лет назад она ехала в детдом на электричке. Ноябрь, такой же серый и мокрый, как этот февраль. Она смотрела в окно и думала, зачем едет. Муж ушел три года назад, спокойно и подло, сказал: «Валь, я хочу детей, а у нас с тобой не получается, и не получится, ты сама знаешь». Она знала. Врачи сказали ей это еще в тридцать два года, и она привыкла к этой мысли, как привыкают к хроническому давлению: всегда есть, иногда прихватывает, живешь дальше. А Коля не привык. Или не захотел привыкать. Ушел к другой женщине, которая родила ему двоих. Валентина Ивановна видела их иногда в магазине: Коля с коляской, молодая жена, розовощекие дети. Он здоровался, она здоровалась. Всё нормально.
Она не сразу решила насчет детдома. Долго думала. Боялась. Говорила себе: зачем тебе чужой ребенок, справишься ли, правильно ли это. Подруга Люся сказала: «Валь, не выдумывай, ты одна, тебе самой надо о себе думать». Подруга Нюра сказала: «Попробуй, чем черт не шутит». Валентина Ивановна в итоге решила сама, без подруг. Просто в один день встала, собралась и поехала.
В детдоме ей показывали разных детей. Маленьких, тихих, улыбчивых. Детей, которые явно умели понравиться. Алина сидела в углу и читала книжку. Нет, не читала. Делала вид, что читает. Исподлобья смотрела на незнакомую тетку, которую привели, чтобы она выбрала кого-нибудь, как выбирают щенка на рынке. Двенадцать лет, худая, с короткими волосами, в которых не было никакой прически, просто волосы. На левой руке шрам. Воспитательница шепнула: «Это Алина, сложная девочка, вы не смотрите». Валентина Ивановна подошла и спросила, что она читает. Алина показала обложку, не говоря ни слова. Это был «Граф Монте-Кристо». Валентина Ивановна сказала: «Хорошая книга». Алина сказала: «Угу». И снова уставилась в страницу.
Они выбрали друг друга. Или не выбрали, а просто так вышло, что потом уже не переиграешь.
Первые месяцы были такими, что Валентина Ивановна иногда вечером садилась на кухне, закрывала дверь и думала: может, я ошиблась. Алина хамила. Не грубо, не матом, а так, знаете, тихим ядом. «Ты купила не тот хлеб». «Зачем ты заходила в мою комнату». «Мне не нужна твоя помощь». Дверь в комнату закрыта всегда. Если Валентина Ивановна стучала, из-за двери доносилось: «Чего?». Не «войди», не «да», просто «чего». Как к чужой.
Однажды ночью Валентина Ивановна услышала, что Алина кашляет. Сильно, с хрипом. Постояла у двери, послушала. Зашла. Алина лежала на кровати, у нее был жар, щеки горели, она смотрела в потолок и упрямо молчала. Валентина Ивановна пошла на кухню, сделала горячее молоко с медом и маслом, которое ее мать делала ей в детстве. Принесла. Алина взяла кружку, не сказала спасибо, выпила. Потом сказала:
— Почему с маслом?
— Так лучше.
— Противно.
— Зато помогает.
Алина помолчала.
— Ладно, — сказала она.
Это было первое настоящее слово между ними. Не «чего» и не «не нужна твоя помощь», а просто «ладно». Маленькое, на один слог, но Валентина Ивановна запомнила его на всю жизнь.
Потом были джинсы. Алина хотела такие, какие носила какая-то Катя из класса, дорогие, с вышивкой на кармане. Деньги тогда были совсем туго, Валентина Ивановна ела на работе в столовой самое дешевое, а вечером дома перебивалась чаем с хлебом, говорила Алине, что не голодна. Но джинсы купила. Приехала с ними домой, положила на стол. Алина посмотрела, потом на нее, потом снова на джинсы. И ничего не сказала. Ушла к себе. Но через час вышла в этих джинсах и сказала:
— Нормально сидят.
— Хорошо, — сказала Валентина Ивановна.
— Спасибо, — сказала Алина, тихо и через силу, как будто это слово у нее немного застряло в горле, но все-таки вышло.
Вот так и строилось. Медленно, криво, с перерывами. Не как в кино, где приемная дочь сразу называет маму мамой и плачет у нее на плече. В жизни это иначе. В жизни это «нормально сидят» и «ладно». И ты берешь это «ладно» и держишь его крепко, потому что больше пока ничего нет.
Алина прожила с ней три года в школе, потом поступила в институт. На педагога начальных классов, Валентина Ивановна этому удивилась: девочка с характером Алины и дети, хорошее сочетание ли? Но Алина сказала, что хочет именно это, и Валентина Ивановна не стала спорить. Алина поступила, переехала в общежитие. Звонила редко в начале, потом чаще. Иногда приезжала на выходные, ела борщ, смотрела телевизор, рассказывала про институт. Что-то изменилось между ними, когда появилось это расстояние. Может, им обеим нужно было немного отдышаться друг от друга.
Но то, что Алина рассказывала, было всегда какое-то общее. Общежитие, лекции, подруги. Ничего личного. Ничего про то, что у нее внутри.
Год назад, в марте, Алина позвонила и голос у нее был странный. Валентина Ивановна спросила: «Всё нормально?». Алина сказала: «Да, нормально, просто устала». И они поговорили про что-то другое. Валентина Ивановна потом думала об этом звонке. Думала, что надо было спросить иначе. Не «всё нормально», это вопрос, на который всегда отвечают «да». Надо было спросить по-другому. Но как, она не знала.
А что случилось в марте, Алина рассказала уже позже, в марте следующего года, когда Мише было уже шесть недель и он научился сосредоточенно смотреть в одну точку, выбирая для этого почему-то левый угол потолка.
Преподаватель был на кафедре педагогики. Алина ходила к нему на консультации, он умел говорить так, что казалось, понимает тебя лучше, чем ты сама себя понимаешь. Он был женат. Это Алина знала. Она потом говорила себе, что это не оправдание, что она сама дура, что нечего было. Но когда тебе двадцать два года и человек смотрит на тебя так, будто ты самая интересная женщина в комнате, не так-то просто сказать «нет». Особенно если ты выросла в детдоме, где на тебя вообще никто так не смотрел никогда.
Всё закончилось в октябре. Жена пришла на кафедру. Валентина Ивановна пыталась представить эту сцену, когда Алина ей рассказывала, и у нее заболело где-то в груди. Жена, женщина лет тридцати пяти, кричала в коридоре, при студентах, при всех. Говорила про Алину такие слова, которые повторять не нужно. Преподаватель вышел, взял жену за руку и увел ее, не обернувшись.
Он не обернулся.
Алина стояла и смотрела ему в спину. Потом ушла в туалет, закрылась в кабинке и просидела там, наверное, час. Никто не пришел спросить, как она. Люди видели всё это, слышали всё это, и никто не пришел. Или побоялись, или не захотели лезть в чужие дела.
Через три недели тест показал две полоски.
Алина сидела на краю ванны в общежитии и смотрела на этот тест долго. Потом встала, умылась холодной водой, посмотрела на себя в зеркало и сказала себе вслух: «Ну и ладно». Потом позвонила Маринке с Ленинградки, своей однокурснице, единственной, которой доверяла по-настоящему.
Маринка сказала: «Живи у меня, сколько надо».
Почему она не позвонила Валентине Ивановне?
Алина объяснила это так, что получилось одновременно просто и невыносимо:
— Ты бы начала решать. Ты бы начала говорить, что делать. Ты бы сказала, что надо позвонить в органы, или что отец должен платить алименты, или что надо взять академический отпуск. Ты бы вся ушла в эту задачу. А мне нужно было, чтобы кто-то просто сидел рядом и молчал. Ты не умеешь просто молчать рядом, мама. Ты умеешь делать, но не умеешь быть.
Валентина Ивановна не стала спорить. Она узнала себя в этих словах. Неприятно, когда тебя описывают точно.
Март перешел в апрель. Алина жила у Маринки. Маринка оказалась хорошим человеком: не лезла с советами, готовила суп, в час ночи могла встать и принести стакан воды. Таких людей мало, и Валентина Ивановна была ей благодарна, хотя никогда не говорила этого вслух, потому что не умела говорить такое чужим людям.
Миша родился в январе. Здоровый, крикливый, с темными волосами и таким видом, будто он всем тут недоволен. В роддоме рядом была Маринка, а не мать.
Когда Алина рассказала ей всё это, Валентина Ивановна долго молчала. Потом сказала:
— Мне нужно было быть другой.
— Да, — сказала Алина. — Наверное.
— Я не умела. Я правда не умела.
— Я знаю, — сказала Алина. И это «я знаю» было не примирением, не прощением. Это была просто констатация факта. Она знала, что мать не умела. Это не делало боль меньше, но делало ее хотя бы объяснимой.
Они жили теперь вместе. Валентина Ивановна отдала Алине большую комнату, поставила туда кроватку, купленную у соседки Зинаиды Петровны, которая, как и предполагалось, оказалась бесценным источником знаний. Зинаида Петровна приходила через день с кастрюлями и советами, большую часть которых никто не просил, но все-таки.
— Гляди-ка, — говорила она, глядя на Мишу, — настоящий богатырь. Это хорошо, что крикливый. Тихие-то дети, они похуже бывают. Это я тебе точно говорю.
Алина слушала Зинаиду Петровну с таким выражением лица, как будто терпит зубную боль, но в целом не прогоняла. Потому что Зинаида Петровна, при всей своей навязчивости, действительно помогала: могла посидеть с Мишей, пока Алина спала, знала, что делать с коликами, и один раз привела свою невестку, которая работала педиатром.
Валентина Ивановна на работу уже не ходила, пенсия позволяла жить скромно, но без паники. Иногда ныло давление, иногда болели колени, особенно когда менялась погода. Февраль вообще был плохим месяцем для ее коленей. Но она старалась не говорить об этом Алине, которой и без того было несладко.
Они притирались. Это долгий процесс, притирка двух людей, которые и раньше не умели говорить по-настоящему. Утром Алина кормила Мишу, Валентина Ивановна варила кашу, они пили чай молча. Иногда Алина говорила что-то про Мишу: «Он сегодня всю ночь спал, представляешь». Или: «У него, кажется, новый зуд начался, вот здесь». Это были первые слои нового разговора между ними. Осторожные, ни о чем, но уже что-то.
В апреле позвонил Коля.
Валентина Ивановна сидела на кухне, читала газету. Телефон зазвонил, она посмотрела на экран и несколько секунд просто держала его в руке. «Коля». Она не удалила его номер. Зачем, непонятно. Просто не удалила.
— Да? — сказала она.
— Валь, это я. — Голос у него был другой. Не тот, который она помнила. Тот был уверенным, слегка насмешливым. Этот был тихий и какой-то обобранный. — Можно встретиться?
Они встретились в кафе недалеко от ее дома. Коля выглядел так, будто прошлые двадцать лет дались ему тяжелее, чем ей. Похудел, голова совсем седая, под глазами что-то нехорошее. Она смотрела на него и думала, что давно уже не злится. Злость ушла куда-то лет десять назад, осталось только что-то усталое.
Он заказал чай. Помешивал ложкой долго, потом сказал:
— У меня нашли в апреле. Поджелудочная. Буду оперироваться в июне.
Она молчала.
— Я не за сочувствием, — сказал он быстро. — Просто хотел сказать. Я намучился с этим, Валь. Один. Девки мои выросли, у них своя жизнь, жена… ну, ты понимаешь. Она хорошая женщина, но. Он замолчал. — Я хотел сказать тебе, что я был не прав тогда. Когда ушел. Это было подло, я понимаю.
— Понимаешь, — повторила она. Не вопрос, просто слово.
— Да. Теперь понимаю. — Он поднял на нее глаза. — Я шаурмичную продаю. Ну, ты знаешь, я открыл давно. Там деньги выйдут нормальные. Я хочу тебе отдать.
Валентина Ивановна поставила кружку.
— Зачем.
— Вам нужна квартира побольше. — Он говорил так, будто знал, что происходит у нее дома. Она потом выяснила: Зинаида Петровна. Господи, ну и Зинаида Петровна. — Я слышал, у тебя дочка с ребенком. Вам тесно.
— Не твоя забота.
— Валь.
— Не твоя забота, Коль. — Она не говорила это зло. Просто говорила, как есть. — Ты это для себя хочешь. Чтобы легче было.
Он не стал спорить. Видимо, и сам понимал.
Она ехала домой на автобусе и смотрела в окно. Весна была ранняя в этом году, уже кое-где проглядывало что-то зеленое. Думала о том, что Коля выглядит плохо. Думала, что поджелудочная, это серьезно. Думала, что она двадцать лет не видела его и не скучала, но почему-то сейчас ей не всё равно. Почему-то не всё равно, что ему плохо.
Дома она сказала Алине.
Алина посмотрела на нее. Миша лежал у нее на руках и смотрел в потолок.
— И? — сказала Алина.
— Он хочет дать деньги.
— Нет, — сказала Алина сразу.
— Алин.
— Мам, он бросил тебя, потому что ты не могла родить. Это ты понимаешь? Он ушел, потому что ты была бесплодна, как будто это твоя вина. И теперь он хочет дать денег, потому что ему плохо и он боится. Нет.
Валентина Ивановна смотрела на дочь.
— А если я возьму?
— Тогда я не понимаю тебя.
— Ты многое про меня не понимаешь, — сказала Валентина Ивановна спокойно. — И про него тоже. Он плохой человек? Он сделал плохо? Да. Но он не злодей, Алина. Он просто слабый человек. Таких людей большинство.
— И ты его простишь.
— Я давно его простила. Просто поводов не было это сказать.
Алина смотрела на нее. Что-то мелькнуло в ее лице, какое-то сложное выражение, злость или что-то другое, Валентина Ивановна не разобрала.
— Это твоё дело, — сказала Алина наконец. — Твоя жизнь.
Деньги она взяла. Не потому что нужна была квартира. Хотя квартира, конечно, нужна была: в двухкомнатной было тесновато с маленьким ребенком, Мише нужна была своя комната, Алине надо было где-то заниматься, до диплома оставалось несколько месяцев. Но не только поэтому. Она взяла их потому, что Коля должен был их отдать. Это было его дело, его внутренний разговор с собой. И мешать этому разговору было бы неправильно.
Алина несколько недель разговаривала с ней по минимуму. Не ссорилась, не хлопала дверью. Просто отвечала короче и смотрела в сторону. Это было знакомо: Алина так делала еще в подростковом возрасте, когда злилась. Уходила в себя и тихо там сидела.
Зинаида Петровна, придя однажды вечером с кастрюлей щей, посмотрела на них обеих, покачала головой и сказала:
— Вы две одинаковые, вот в чём ваша беда. Обе упрямые и обе молчите, когда надо говорить.
Алина сказала:
— Зинаида Петровна, я вас уважаю, но это не ваше дело.
Зинаида Петровна нисколько не обиделась. Поставила щи и ушла. На следующий день пришла снова.
Лето прошло. Миша рос. У него появились первые зубы, от которых всем в доме было одинаково несладко. Алина готовилась к диплому, Валентина Ивановна сидела с Мишей, пока Алина занималась в своей комнате. Это было новое распределение сил, и в нем было что-то хорошее, хотя оба боялись это вслух называть.
В конце октября пришло письмо от Коли. Не электронное, настоящее, бумажное, что уже само по себе было странно. «Операция назначена на двенадцатое ноября. Не знаю, как выйдет. Но если что, спасибо за тогда. За то, что не обвинила. За то, что взяла». Больше ничего. Ни адреса обратного, ни просьбы ответить.
Валентина Ивановна прочитала письмо два раза, сложила и убрала в ящик комода.
Алина видела письмо. Спросила, что это. Валентина Ивановна сказала: от Коли. Алина кивнула и ничего не сказала. Ни хорошего, ни плохого.
А потом был канун Нового года.
Тридцать первого декабря они были дома вдвоем с Мишей. Зинаида Петровна уехала к дочери. Маринка с Ленинградки позвала Алину к себе, но Алина сказала, что останется. Они не договаривались праздновать, просто так получилось: купили мандарины, Алина сделала оливье, Валентина Ивановна достала из морозилки пирог, который пекла еще в декабре. Миша спал в семь вечера, как всегда, невзирая на праздники.
В десять вечера они сидели за столом. Телевизор бормотал что-то фоном. Алина ела оливье и смотрела в тарелку. Валентина Ивановна пила чай и думала, что надо бы что-то сказать, но не знала, что именно.
Потом Алина подняла голову.
— Я ему написала, — сказала она. Без предисловия, сразу. — Когда Миша родился. Написала, что у нас сын.
Валентина Ивановна поняла, о ком речь. Поставила кружку.
— И?
— Он не ответил. — Алина смотрела на нее. — Он меня заблокировал. Везде. Я нигде больше не существую для него. Ни в телефоне, ни в почте, нигде.
Валентина Ивановна молчала.
— Я понимаю, что сама виновата, — продолжала Алина. Голос у нее не дрожал, но Валентина Ивановна видела, что ей стоит это некоторых усилий. — Я понимаю, что он не мой. Что он был чужой изначально. Но он мог хотя бы… я не знаю. Он мог хотя бы ответить. Хоть что-нибудь. Хоть «не пиши мне». Просто чтобы я знала, что он получил и прочитал. А он просто заблокировал. Как будто меня нет. Как будто Миши нет.
Она смотрела в окно. На улице уже начинали запускать первые петарды, хотя до полуночи было еще два часа.
— Мне очень стыдно, мама, — сказала Алина. Тихо, почти про себя. — Мне стыдно, что я выбрала такого человека. Что я дала ему это. Что я молчала столько месяцев, потому что было стыдно. И сейчас стыдно, что я тебе это говорю. Я привыкла сама справляться, и мне стыдно, что я не справляюсь.
Валентина Ивановна смотрела на нее.
Она думала о том, что хорошо бы сказать что-то мудрое. Что-то такое, что Алина запомнит. Она искала слова и не находила, потому что мудрые слова вообще редко приходят вовремя. Они обычно приходят потом, когда момент уже прошел. Поэтому она сказала то, что было правдой, без украшений:
— Дурочка. — Алина посмотрела на нее. — Я тоже совершала ошибки. Я тоже выбирала не тех. Я вышла замуж за человека, который при первой трудности взял и ушел, и всю жизнь думала, что это моя вина. Что я недостаточно хорошая жена, недостаточно женщина, раз не могу родить. Я тоже оставалась одна. — Она помолчала. — Но тогда я была одна по-настоящему. Без никого. А у тебя есть мы. Ты понимаешь? Вот этот вот маленький в кроватке, и я. Ты не одна, Алин.
Алина смотрела на нее. Секунды три, наверное. Потом что-то в ее лице сдвинулось. Не красиво, не как в кино. Просто вдруг стала видна усталость, которую она все эти месяцы держала внутри.
— Я злилась на тебя, — сказала Алина. — Очень злилась. Что ты не заметила. Что ты работала всегда. Что ты взяла деньги от Коли. Что ты его простила.
— Я знаю.
— Я до сих пор не понимаю, как ты его простила.
— Понимаешь, — сказала Валентина Ивановна. — Просто не хочешь пока принять. Это другое.
Алина опустила голову. Потом подняла снова.
— Мам, мне жаль, что я не позвонила тебе. Тогда, в октябре, когда узнала. Мне жаль, что тебя не было рядом, когда Миша родился. Я думала, что делаю правильно, что справлюсь сама. Но это было неправильно. Это было… — она подбирала слово, — это была гордость. Дурацкая.
— Мне тоже жаль, — сказала Валентина Ивановна. — Что я такая мать, которой страшно позвонить. Это я должна была сделать так, чтобы тебе не было страшно. А я не сделала. Я просто была рядом телом, а головой всегда на работе. Ты права. Это моя вина тоже.
Они помолчали. Телевизор пообещал что-то праздничное, потом замолк на рекламу.
— Он красивый, — сказала Валентина Ивановна. Про Мишу.
— Да, — согласилась Алина. И впервые за этот разговор у нее стало чуть мягче лицо. — Он вообще-то очень красивый. Зинаида Петровна говорит, что он на артиста похож.
— Зинаида Петровна всем так говорит.
— Я знаю. Но всё равно приятно.
Они не обнялись. Не заплакали навзрыд, не сказали слов про любовь. Просто Алина встала, пошла поставить чайник, и по дороге тронула мать за плечо, один раз, мимоходом. И Валентина Ивановна накрыла ее руку своей на секунду. Вот и всё. Вот так это выглядело.
Новый год они встретили с мандаринами под телевизор. Миша проснулся от петард в половине двенадцатого, покричал немного, Алина взяла его на руки, и он успокоился. Они стояли у окна втроем, смотрели на фейерверки. Валентина Ивановна думала о том, что год назад она жила одна и у нее была пенсия, давление и ничего особенного впереди. А сейчас у нее есть дочь, которая наконец сказала ей правду, и внук, который смотрит на фейерверки с таким серьезным видом, будто проверяет их на качество.
Может быть, это и есть то самое, что называют новым началом. Только без торжественности. Просто тихо, с мандаринами.
В начале мая Алина защищала диплом.
Валентина Ивановна приехала одна, оставив Мишу с Зинаидой Петровной, которая пришла с утра при параде, в праздничной кофте. Валентина Ивановна сидела в зале на предпоследнем ряду. Зал был маленький, кафедральный, пахло старыми книгами и немного пылью. Студентов было человек десять, комиссия за длинным столом. Алина вышла к доске в темно-синем платье, которое Валентина Ивановна помнила: сама помогала выбирать на прошлой неделе. Встала, поправила волосы, открыла папку.
Она начала говорить, и Валентина Ивановна поняла две вещи сразу. Первое: Алина хорошо подготовилась. Говорила уверенно, без бумажки, отвечала на вопросы комиссии быстро и точно. Второе: она страшно устала за этот год, и всё равно вот она, стоит и говорит.
Валентина Ивановна сидела и смотрела на нее. Думала о той злой угловатой девчонке в углу детдома с книгой «Граф Монте-Кристо». Думала о том, что она тогда не знала, что берет. Не знала, легко ли будет, хорошо ли выйдет. Просто взяла, и всё. И вот теперь эта девочка стоит перед комиссией и защищает диплом с годовалым ребенком дома.
Когда объявили оценку, Алина обернулась. Нашла ее в зале. Просто посмотрела. И Валентина Ивановна почувствовала, что что-то у нее сделалось в горле, и поняла, что сейчас заплачет. Она не плакала лет, наверное, пятнадцать. На похоронах мамы плакала, а больше не плакала ни разу, потому что как-то не было повода, или повод был, но слезы не шли. А тут пошли. Она достала платок, промокнула глаза и решила, что это нормально. Бывает.
После защиты они пили кофе в кафе на первом этаже института. Алина рассказывала, кто что спросил, какой вопрос был неожиданным. Валентина Ивановна слушала и думала, что давно они так не разговаривали. Наверное, никогда так не разговаривали, по-настоящему.
Письмо от Коли пришло на следующий день. Опять бумажное, и опять без обратного адреса. Короткое: «Операция прошла хорошо. Врачи говорят, что прогноз хороший. Спасибо». И всё.
Алина читала письмо молча. Долго держала в руках.
— Ты думаешь, это потому, что ты его простила? — спросила она наконец.
— Что?
— Что ему стало лучше. Операция прошла хорошо. Ты думаешь, это связано?
Валентина Ивановна подумала. Взяла письмо обратно, сложила.
— Не знаю, — сказала она честно. — Может, совпадение. Врачи хорошие, медицина. А может… Я не знаю, Алин. Я не знаю, как это работает.
Алина смотрела на нее.
— Ты же не веришь в такое.
— Я всю жизнь не верила ни во что такое, — сказала Валентина Ивановна. — У меня дебет и кредит, у меня цифры. Но вот смотри: я столько лет злилась на него. Даже когда думала, что не злюсь. Злилась внутри, тихо. И когда простила по-настоящему, что-то изменилось. Во мне что-то изменилось. А уж он там выздоровел или нет по другой причине… — она пожала плечами. — Мне уже не так важно.
Алина кивнула медленно. Посмотрела в окно.
— Миша сегодня улыбнулся мне, — сказала она. — Первый раз осознанно. Я смотрела на него, а он посмотрел на меня и улыбнулся. По-настоящему, не от газиков.
Валентина Ивановна почувствовала, как снова что-то делается в горле. Опять эти слезы, надо же.
— Это он тебе, — сказала она. — Чувствует, что ты наконец-то успокоилась.
Алина посмотрела на мать. Потом на Мишу, который лежал на диване и смотрел в свой любимый левый угол потолка. Потом снова на мать.
— Ты думаешь? — спросила она.
— Думаю, — сказала Валентина Ивановна.
За окном была весна. Настоящая, уже теплая, с запахом земли и молодой травы, который чувствовался даже здесь, в городе, если открыть окно. Миша засопел. Алина встала, подошла к нему, взяла на руки. Стояла у окна, качала, и он смотрел на нее снизу вверх. Серьезно и спокойно, как человек, который доверяет.