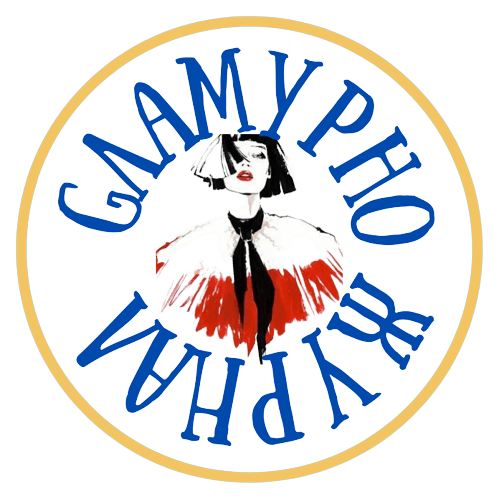Декабрьские сумерки неторопливо заваливали город пушистым снегом, словно хотели скрыть все несовершенства мира перед приходом нового года.
***
В больничной палате лежали трое. Каждая из женщин жила отдельной жизнью, лишь изредка поддерживая совместные разговоры.
Самая молодая, Катя, лет двадцати с небольшим, сидела на кровати, скрестив ноги в тигровых полосатых лосинах, и что-то строчила на экране новенького айфона.
Она попала в больницу почти неделю назад и очень надеялась, что к праздникам ее отпустят домой.
На соседней кровати, чуть поодаль, сидела Нина Петровна, полная, розовощекая женщина с мягкими, добрыми глазами.
Она вязала шарф из толстой синей пряжи. Спицы в ее руках двигались с уверенностью и сноровкой опытной мастерицы.
В самом дальнем углу возле окна, полулежала Валентина Ивановна – худенькая, с усталым, пронзительным взглядом женщина, которая казалась значительно старше своих шестидесяти.
Она безучастно смотрела в окно на летящий снег. Ее тонкие губы были плотно сжаты. Всем своим видом Валентина Ивановна буквально требовала, чтобы ее оставили в покое.
– Девочки, как на счет подарков на Новый год? – неожиданно спросила Нина Петровна, не отрываясь от вязания. – До праздника рукой подать, а мы тут лежим себе и в ус не дуем!
Катя оторвалась от телефона и улыбнулась.
– А мне уже подарили!
Нина Петровна подняла брови, продолжая вязать.
– Заранее?
– Ну да, – смутилась Катя. – Вот этот Айфон! Я так о нем мечтала!
– Дорогущий, видать. А кто подарил-то?
– Парень подарил. Исполнил мою мечту!
Валентина медленно повернула голову от окна. Ее взгляд был колючим, как иголка.
– И давно вы с ним знакомы? – голос у нее был низким, с хрипотцой.
Катя на мгновение растерялась:
– Почти год… А что?
– Ничего, – так же медленно проговорила Валентина. – Просто… это слишком дорогой подарок для «почти года». Тем более на Новый год. Это же не день рождения.
Нина Петровна тут же вмешалась:
– Ой, Валентина, да что вы! Раз человек купил дорогой подарок, значит, мог. Молодец, порадовал девушку.
– Порадовал… – протянула Валентина, и в этом слове слышалось столько скепсиса, что Катя даже покраснела. – Девочка, а ты, когда подарок принимала, поинтересовалась, что он своей маме подарил? Ведь она – самый близкий для него человек.
Катя опешила.
– Ну… я… не знаю, – пробормотала она, опустив глаза. – Мы о таком не говорили.
– Вот-вот, не говорили, – с торжествующей ноткой в голосе бросила Валентина, – а парень твой сам должен понимать, что мама – самый главный человек в его жизни. Она всегда есть и всегда будет рядом. Что бы ни случилось. А то ишь – мода пошла: нашел девчонку – и тут же забыл, кто его на ноги поставил, – она отвернулась к окну, словно говорить больше было не о чем.
– Валентина, что вы такое говорите! – снова возмутилась Нина Петровна, опустив вязание. – Вы что, не понимаете?! У них же любовь! При чем тут мама?
– А притом. Вот у моей подруги ситуация: сын недавно к ней переехал. Потому что заболел! Пока здоровый да сильный был, деньги зарабатывал, жена с него пылинки сдувала. А как диагноз поставили – любовь испарилась. И никому он теперь не нужен: ни жене, ни детям. А их трое, между прочим. И никто за него не вступился, когда жена заявила, что ей четвертый ребенок не нужен. И поехал он к своей старенькой маме. И та, разумеется, его приняла. Смотрит за ним, ухаживает. Верит, что поднимется сын, снова станет в строй. А ведь тоже особо маме внимания не уделял, когда женился. Приезжал редко, хоть и жил в одном городе, про подарки – вообще молчу: даже не пытался. Зачем? Маме ничего не нужно, она все поймет, не обидится.
В палате повисла пауза.
Катя смотрела то на Валентину, то на Нину Петровну. В душе у нее боролись разные чувства: обида за своего парня, непонятное чувство вины и внезапное, острое сострадание к незнакомому мужчине, о котором рассказала Валентина.
– Да не слушайте вы ее, Катюша, – тихо, но очень твердо сказала Нина Петровна. Она посмотрела на Валентину Ивановну не с осуждением, а с каким-то странным пониманием. – Валентина, голубушка, вы всегда так? Черное-белое. По-вашему получается: или мать, или жена. Или долг, или любовь. А жизнь-то она… в оттенках. И в компромиссах.
Катя молчала, перебирая краешек одеяла и думала: «А правда, что он маме подарил?» Этот вопрос не выходил у нее из головы. Раньше она не думала об этом. Да и он не рассказывал. Говорил только: «Я тебя люблю, хочу сделать самой счастливой». И… разве не это главное?
– У меня тоже сын, – неожиданно начала Нина Петровна. Голос ее стал мягче, задумчивее. – Далеко живет, в Питере. Успешный, хороший. Звонит каждое воскресенье, без пропусков.
На Новый год всегда присылает коробку дорогого чая и конфет. Ровно такую же, как отправляет теще. Я знаю, потому что он как-то проговорился. Очень боится обидеть кого-то невниманием. Особенно жену. И знаете что? – она вздохнула. – Иногда, когда кладу эту коробку на полку, мне хочется не чая, а чтобы он… накричал на меня. Как в детстве, когда злился, что я не купила пятую машинку. Или чтобы пожаловался на работу, на жизнь, как другу, а не как вежливый гость.
Валентина Ивановна только плотнее сжала губы.
Катя заметила, как дрогнула ее тонкая, почти прозрачная рука, лежавшая на одеяле.
– Я… я позвоню ему, – тихо сказала Катя. Не Валентине, не Нине Петровне, а скорее самой себе. – Просто так. Спрошу… как дела. Может, про маму… что-то узнаю.
– Не надо спрашивать про маму, – обернулась Валентина. Ее глаза, такие колючие минуту назад, вдруг стали бесконечно усталыми. – Спроси, как он, что у него на душе. Он-то у тебя хоть раз интересовался?
Катя почувствовала, как комок подкатывает к горлу. Он звонил. Каждый день. Спрашивал: «Как самочувствие? Врачи что говорят? Скоро ли выпишут?» И она, захлебываясь, рассказывала про анализы, про скучную еду, про то, как хочет домой. А он успокаивал. Но вопроса «Как твой день, Кать?» … такого, простого, человеческого, не было. Было «как здоровье?». Но ведь это одно и то же?
– Вы… вы какая-то горькая, Валентина Ивановна, – вырвалось у Кати. – Вам самой, наверное, очень больно.
Спицы Нины Петровны перестали постукивать. Валентина долго смотрела на Катю. И, вдруг, выдохнула:
– Больно! Потому что это не к подруге, это ко мне сын переехал. Тот самый. Которого жена выставила… Он здесь сейчас, лежит в соседнем корпусе. В реанимации. И я не знаю, выйдет ли он когда-нибудь оттуда… А его жена… та самая, что «пылинки сдувала»… она уже подала на развод. Через мессенджер. Пишет: «Не могу больше, у меня своя жизнь».
Нина Петровна ахнула:
– Господи, Валя… почему же ты молчала?
– Стыдно, – просто отозвалась та. – Стыдно, что вырастила сына, который, когда припекло, оказался никому не нужен, кроме мамы. Стыдно за свою злость на него. И за нее стыдно. И еще стыдно… что завидую, – она посмотрела на Катин телефон. – Завидую вашей легкости. Вашей вере в то, что подарок – это просто подарок, а не долговая расписка или какое-то обязательство. Может, у вас и правда все будет иначе.
Нина Петровна присела на край кровати Валентины. Положила свою пухлую ладонь на ее костлявую руку:
– Все хорошо у вас будет, Валюша. Сын поправится. И невестка одумается. Вот увидишь! Она просто испугалась. Так бывает.
Катя взяла телефон. Ей вдруг очень захотелось написать маме. Она набрала сообщение.
«Мам, привет. Я так соскучилась. Прости, что редко звоню. Как ты? Как суставы? Что планируешь на Новый год? Давай вместе? Я люблю тебя».
Отправила. И сразу пришел ответ, быстрый, как вздох: «Доченька, родная! Суставы – ерунда. Давай вместе, конечно! Целую».
Катя показала экран Валентине Ивановне. Та долго смотрела на светящиеся строки, потом кивнула, и в уголках ее губ дрогнуло что-то, отдаленно напоминающее улыбку.
– Молодец, – хрипло сказала она. – всегда помни тех, кто любит тебя просто так.
– А вашего сына… как его зовут? – осторожно спросила Катя.
– Сергей, – выдохнула Валентина.
– Сергею обязательно станет лучше, – твердо сказала Катя. Она верила в это сейчас всем существом. – И мы… мы вам поможем. Хоть чем. Нина Петровна свяжет ему теплый шарф. А я… научу вас отправлять голосовые сообщения в мессенджере. Чтобы вы, когда он поправится, могли с ним общаться голосом.
Валентина Ивановна закрыла глаза. Слезы, которые она, казалось, держала в себе годами, прорвались сквозь ресницы…
– Спасибо, девочка, – прошептала она…
За окном темнело. Снег продолжал падать, заворачивая больничный двор в белую, чистую шаль. Он уже не прятал несовершенства мира. Он просто укрывал его, давая передышку, шанс все начать заново.
С чистого листа. С тихого слова. С взгляда, полного не осуждения, а понимания.