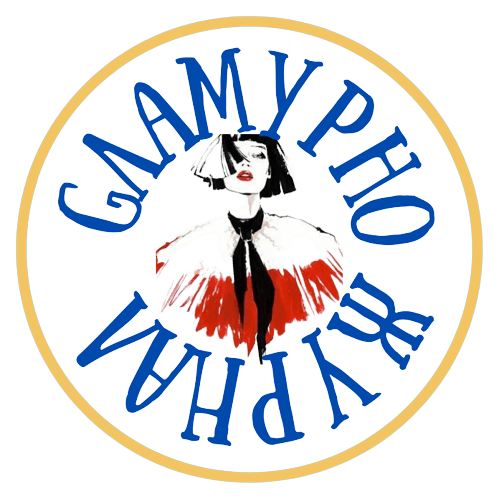Телефон у Веры зазвонил в половину восьмого вечера. Она как раз домывала сковороду и знала, кто это, ещё до того, как взяла трубку. Светлана звонила всегда в неудобное время, это у неё было как закон природы.
— Ну что там с папой, — сказала Светлана вместо «здравствуй». Не спросила даже. Констатировала.
— Здравствуй, Света, — ответила Вера и выключила воду.
— Здравствуй. Так что там? Лидия Петровна из Новосёлок написала, что папу скорая увезла.
— Увезла. Инсульт.
Пауза. Вера слышала, как за Светланиной трубкой кто-то смеётся. Телевизор, наверное. Или гости.
— Серьёзно?
— Куда уж серьёзней. Правую сторону отняло. Говорить не может.
— Господи, — сказала Светлана, и в голосе её было что-то, что Вера не взялась бы точно назвать. Не то испуг, не то досада. — И что теперь?
— Теперь его надо забрать. Он там один, Света. Ты же понимаешь, один он там не сможет.
— Ну, может, нанять кого? Сиделку там, или…
— На какие деньги нанять? У папы пенсия двенадцать тысяч. Сиделка столько и стоит, а ещё еда, лекарства. Он там зимой замёрзнет один.
Снова пауза. Вера машинально вытерла руки о полотенце и посмотрела в окно. Ноябрь. Уже совсем темно в шесть вечера.
— Вер, ты понимаешь, что у меня работа, Димка, ипотека…
— У меня тоже работа, Света. И живу я одна, без Димки.
— Ну ты же ближе. И квартира у тебя больше.
Вера усмехнулась. Квартира у неё была двухкомнатная, в спальном районе, на четвёртом этаже без лифта. Никакая не большая. Просто Светлана жила в однушке и очень ловко это использовала.
— Хорошо, — сказала Вера, — я заберу. Но ты будешь приезжать. Договорились?
— Конечно, конечно. Как только смогу.
«Как только смогу» у Светланы означало «когда захочу». Вера это знала. Но папу надо было забирать, и она поехала в Новосёлки на следующей неделе.
—
Николай Михайлович сидел в больничной палате у окна и смотрел на голые тополя во дворе. Он был в старой пижаме, которую Вера никогда раньше не видела, наверное, купили соседи или медсёстры. Когда она вошла, он повернул голову. Правая сторона лица немного заплыла, но глаза, глаза у него были такие же, как всегда. Ясные, тёмно-серые, внимательные. Папины глаза.
— Папа, — сказала Вера и не договорила.
Он поднял левую руку. Не помахал. Просто поднял, как будто хотел что-то объяснить, и снова опустил.
— Я тебя забираю к себе. Сегодня договорилась с врачом.
Он смотрел на неё. Потом медленно кивнул.
— Всё будет хорошо, — сказала Вера, хотя оба они понимали, что это неправда. Точнее, не совсем правда. Не совсем неправда.
Дорога обратно вышла длинная. Папа сидел на переднем сиденье, смотрел в окно. Мимо проносились поля, уже прихваченные первым морозом, лесополосы, пустые остановки. Иногда он что-то пытался сказать. Получалось что-то вроде «м-мх» или «э-э-х», губы двигались, но слова не выходили. Вера делала вид, что понимает.
— Да, папа. Да, знаю.
Он смотрел на неё с таким выражением, которое она запомнила на всю жизнь. Ни жалости к себе, ни обиды. Что-то другое. Усилие. Человек, который привык всё делать сам, и теперь не может сделать ничего, но не сдаётся.
—
Соседку звали Зинаида Ивановна, но все на площадке звали её просто тётя Зина. Ей было за семьдесят, она была маленькая, круглая, с перманентом, который она делала раз в три месяца в парикмахерской «Людмила» на первом этаже соседнего дома. Тётя Зина вышла на пенсию лет десять назад с завода «Электроприбор», с тех пор знала обо всём, что происходит в подъезде, и считала это своим долгом.
Когда Вера привезла отца, тётя Зина уже стояла в дверях с кастрюлей супа.
— Вера Николаевна, я сварила куриный. Мягкий, он сможет.
— Спасибо, тётя Зин.
— Николай Михайлович, здравствуйте! Добро пожаловать, можно так сказать.
Папа посмотрел на неё. Что-то попытался изобразить левой половиной рта. Получилось похоже на улыбку.
— Ой, смотрите, улыбается! — обрадовалась тётя Зина. — Значит, всё у нас будет хорошо.
Вера занесла сумки и начала думать, как устроить папу в комнате, где раньше стояли её швейная машинка, гладильная доска и коробки с зимними сапогами. Швейную машинку она поставила на балкон, гладильную доску в прихожую, коробки отнесла на антресоли. Купила в магазине «У дома» специальный поручень в ванную, нескользящий коврик. Переставила мебель так, чтобы от кровати до стены было широко, не меньше метра.
Папа стоял посреди комнаты и смотрел.
— Нравится? — спросила Вера.
Он скосил взгляд на окно, потом на неё. Кивнул.
— Светло здесь. Тополя видно. Помнишь, мы с тобой в Новосёлках тополя садили?
Он поднял голову. Что-то изменилось в его лице, что-то мягкое прошло по нему, как тень облака по воде. Помнил. Конечно, помнил.
—
Первые недели были самые тяжёлые, хотя Вера потом не могла бы точно сказать, какие именно. Они все были тяжёлые. Она вставала в половину шестого. На работу к девяти, в «Техносервис», бухгалтером. До работы надо было успеть: поднять папу, помочь умыться, накормить завтраком, дать таблетки, проследить, чтобы он дошёл до кресла, чтобы телевизор был включён, чтобы телефон лежал рядом, хотя звонить он не мог, но хоть чтобы был.
Тётя Зина приходила в десять. Проверяла, не нужно ли чего, садилась рядом, рассказывала новости подъезда. Папа слушал. Кивал или качал головой. Иногда тётя Зина читала ему вслух из газеты «Аргументы и факты», которую сама выписывала. Это, похоже, ему нравилось.
Вера возвращалась в шесть. Иногда в семь. В «Техносервисе» был квартальный отчёт, потом налоговая, потом снова отчёт. Начальник, Аркадий Семёнович, был человек неплохой, но бухгалтерия есть бухгалтерия, там не скажешь «у меня папа болен, подождёт».
Она приходила домой, и первое, что делала, заглядывала к нему. Он почти всегда не спал. Сидел в кресле или лежал на боку, смотрел в потолок или в окно. Когда она появлялась в дверях, поворачивал голову.
— Как ты?
Левая рука чуть поднималась. Что-то вроде «так себе» или «нормально». Она уже начинала понимать разницу.
— Сейчас ужин сделаю.
—
Работу он себе нашёл сам. Вера не сразу поняла, что происходит.
Сначала она заметила, что посуда в сушилке стоит мокрая. Не просто мокрая, а с разводами, как будто её ополоснули, но не вытерли. Она решила, что сама не доделала. Перемыла.
Потом увидела, что стопка полотенец на полке в ванной переложена. Она складывала лесенкой, а теперь они лежали просто горкой, неровно. И постельное бельё в шкафу было перебрано: не так, как она оставляла.
Однажды пришла домой и услышала звук воды из кухни. Заглянула, папа стоял у раковины, держась левой рукой за край, и правой, плохо слушавшейся правой рукой, пытался мыть кружку. Кружка выскальзывала. Он перехватывал её. Снова выскальзывала.
— Папа…
Он обернулся. В глазах не было просьбы о помощи. Там было что-то другое. Упрямство, что ли. Или достоинство. Он снова взял кружку.
Вера постояла в дверях и ушла. Переоделась. Потом вернулась на кухню, поставила чайник, и ни слова не сказала про кружку.
Через неделю она поняла систему. Он мыл посуду, которую мог. Перекладывал бельё. Вытирал пыль со стола в своей комнате, для этого у него под рукой лежала старая фланелевая рубашка. И ещё, это она заметила позже, он завязывал узелки на бельевой верёвке на балконе.
У неё на балконе была натянута верёвка, она вешала там влажные вещи после стирки. Верёвка была простая, синтетическая. И вот однажды Вера обнаружила, что по всей верёвке, через равные промежутки, завязаны узелки. Маленькие, неровные, но завязаны. Левой рукой и немного правой.
Она стояла на балконе и смотрела на эти узелки, и не знала, что чувствует. Что-то острое поднялось в горле. Папа всю жизнь проработал плотником. В Новосёлках знали его руки все, кто когда-либо строился или чинился. Руки, которые сбивали венцы, тесали брёвна, делали оконные рамы так, что потом сорок лет не рассыхались. И вот теперь эти руки завязывают узелки на верёвке. Не потому, что так надо. А потому, что надо хоть что-нибудь.
Той ночью она развязала все узелки. Тихо, чтобы не разбудить его. Утром он, наверное, снова будет завязывать. И она снова развяжет ночью. И так будет продолжаться.
Так и продолжалось.
—
Светлана приехала в первый раз через три недели после того, как папу привезли. Позвонила в субботу утром, сказала, что будет в два. Вера сготовила обед, прибралась, постирала папины вещи, чтобы всё выглядело хорошо. Зачем, она и сама не могла бы сказать. Сестра всё равно найдёт, к чему придраться.
Светлана приехала в три. Не в два, в три. Вошла в пальто нараспашку, с большим пакетом, из которого торчали мандарины и какая-то коробка в блестящей упаковке.
— Ой, как тут у вас, — сказала она, оглядываясь. Это «как тут у вас» Вера запомнила. Не «как тут у нас», не «как тут у папы», а «у вас».
— Раздевайся, проходи.
Светлана прошла к папе. Вера слышала из кухни:
— Папочка! Как ты? Господи, ну ты хорошо выглядишь, правда хорошо!
Пауза.
— Папа, смотри, я тебе мандаринчиков привезла и вот, это печенье, бельгийское, вкусное очень.
Ещё пауза.
— Ну скажи что-нибудь, папочка.
Вера слышала, как он пытается. Слышала это «м-мх», которое могло означать что угодно. Могло означать «хватит» или «не надо» или просто «я здесь, я слышу тебя».
Светлана вышла на кухню с телефоном в руке.
— Вер, можно я его сфотографирую? Для памяти.
— Спроси у него.
— Что значит спроси, он же не может…
— Он понимает всё, Света. Зайди и спроси.
Светлана постояла, потом вернулась к папе. Через минуту щёлкнул телефон. Потом ещё раз. Потом ещё.
За обедом Светлана говорила в основном сама. Про Димку, про его работу, про то, как дорожает всё. Про какую-то подругу, у которой муж ушёл. Папа сидел за столом, ел суп левой рукой, медленно, иногда расплёскивал. Светлана делала вид, что не замечает. Вера тихо подкладывала салфетки.
— Вера, а почему у него такая ложка? — спросила вдруг Светлана.
— Какая?
— Ну вот эта, большая, глубокая.
— Удобнее. Левой рукой труднее с обычной.
— А специальные приборы не пробовала? Там есть такие, для лежачих…
— Папа не лежачий.
— Ну для больных, я имею в виду. Я видела в интернете.
Вера взяла чашку, отпила чаю.
— Покажешь ссылку, посмотрим.
Ссылку Светлана не прислала. Ни в тот день, ни потом.
Уходя, она обняла папу, потрепала его по плечу.
— Пап, ты держись. Я скоро опять приеду.
Он смотрел на неё. Вера не могла прочитать этот взгляд. Усталость? Что-то ещё?
Светлана уехала. Папа долго сидел у окна и смотрел на тополя.
—
Зима пришла быстро, как будто только и ждала. В конце ноября ударил мороз, засыпало снегом. Вера покупала ему тёплые носки и домашние тапочки на меху, папа их надевал и снимал, надевал и снимал, как будто не мог привыкнуть. Тётя Зина вязала ему гетры из собачьей шерсти, говорила, что от них «всякое кровообращение». Папа гетры терпел.
По вечерам, когда Вера заканчивала всё по хозяйству, они иногда сидели вдвоём за кухонным столом. Она пила чай, он держал кружку двумя руками, правой поддерживал снизу. Телевизора не было слышно. За окном шёл снег или не шёл, это уже неважно. Она говорила что-нибудь, он слушал. Или она молчала, и он молчал тоже, и это было нормально. Она давно не помнила, чтобы с кем-то так можно было помолчать.
— Пап, помнишь, ты мне полку в общежитии делал? Когда я на первом курсе учились?
Он поднял глаза.
— Я тогда говорила, что сама справлюсь, а ты всё равно приехал. С инструментами. Я ещё злилась.
Он смотрел на неё и молчал. Но Вера видела, видела, что он помнит. Что-то живое было в этом взгляде, какое-то удовольствие.
— Полка до сих пор стоит, представляешь? Я её с собой взяла, когда из общежития переехала. Вон она, в прихожей.
Папа медленно повернул голову в сторону прихожей. Потом обратно, на Веру. И чуть, самую малость, поднял уголок рта. Левый уголок.
Это была история про долг и выгоду, но Вера об этом не думала. Она думала только о том, что надо с утра разморозить котлеты и не забыть позвонить в поликлинику насчёт следующего осмотра.
—
Светлана приезжала раз в месяц. Иногда раз в полтора. Всегда в выходные, всегда ненадолго. Привозила что-нибудь в блестящих пакетах, фотографировала отца, постила в своих соцсетях что-то вроде «навестила папочку, держись, родной». Однажды Вера случайно увидела один такой пост, там было фото папы в кресле, и подпись: «Папа, мы все тебя любим и ждём выздоровления». Под постом было много сердечек. Много незнакомых Вере людей писали «держитесь», «выздоравливайте», «вы молодец».
Вера закрыла телефон и пошла мыть посуду.
Каждый раз, когда Светлана уходила, она что-нибудь говорила напоследок. Что-нибудь про «неправильный уход».
— Вер, а почему он у тебя такой бледный?
— Потому что зима и он почти не выходит.
— Надо гулять. Я читала, при инсульте очень важно движение.
— Мы гуляем. Каждый день, когда не гололёд.
— Ну как-то мало. И вообще, почему окно в его комнате всегда закрыто? Надо проветривать.
— Проветриваю. Он мёрзнет.
— А тёплое одеяло? Это простое одеяло, ему наверное холодно.
— Света, у него три одеяла и гетры из собачьей шерсти. Он не мёрзнет.
— Ну не знаю, не знаю. Мне кажется, он у тебя какой-то несчастный. Может, лучше в пансион его? Там специалисты.
Вера смотрела на сестру. Пансион. Специалисты. Туда, откуда потом не возвращаются.
— Он несчастный, потому что у него инсульт, Света. Это не лечится пансионом.
Светлана поджимала губы и уезжала.
—
Весной папа начал выходить на балкон сам. Просто стоял там, держась за перила, смотрел вниз. Во дворе уже пробивалась трава, дети гоняли мяч. Он стоял и смотрел.
Однажды Вера вышла к нему и встала рядом.
— Хорошо, — сказала она. Просто так, ни к чему.
Он кивнул.
— В Новосёлках сейчас тоже хорошо. Сирень, наверное, уже цветёт.
Он снова кивнул. Потом повернул голову и посмотрел на верёвку. На ней не было узелков. Он тяжело наклонился, взял конец верёвки в левую руку и начал завязывать. Медленно. Пальцы плохо гнулись.
Вера стояла рядом и не помогала.
Когда узелок получился, он посмотрел на неё. Взглядом, который она теперь хорошо понимала. Что-то вроде «видишь?».
— Вижу, — сказала она. — Хорошо завязал.
Это была ложь во спасение, и они оба это знали. Узелок был кривой, еле держался. Но ночью Вера его аккуратно развяжет. И завтра он снова будет завязывать.
Так устроена жизнь, подумала она. Кто-то завязывает, кто-то развязывает. И это тоже работа. Тоже важная.
—
Лето прошло. И осень. И снова зима. Потом ещё одна весна, ещё одно лето. Шло время, семейные отношения между сёстрами оставались такими же, как верёвка на балконе: натянутыми, с узелками.
Папа немного окреп. Ходил увереннее, правая рука чуть разработалась, он мог держать карандаш. Писал иногда. Медленно, криво, но писал. «Хлеб» на бумажке, когда заканчивался хлеб. «Холодно» однажды зимой. Вера эти бумажки берегла. Не знала зачем, просто клала в ящик стола.
Говорить он так и не научился. Речь не вернулась. Врач объяснял что-то про повреждённые участки, про то, что бывает и бывает, что нет. У папы, видимо, был тот случай, когда нет. Но он, кажется, с этим примирился. Во всяком случае, бился головой в стену не переставал. Просто жил. Завязывал узелки, перекладывал бельё, вытирал пыль фланелевой рубашкой.
Однажды тётя Зина пришла и застала его за необычным занятием. Он сидел за столом и складывал спичечные коробки в башню. Коробки у него был целый запас, он их собирал, Вера специально покупала в магазине «У дома» по пять-шесть пачек сразу. Башня из коробок поднялась до его плеча и завалилась. Он начал снова.
— Николай Михайлович, — сказала тётя Зина, — вы как маленький, ей богу.
Он посмотрел на неё. И что-то в его взгляде было такое, что тётя Зина осеклась.
— Хотя нет, — поправила она себя. — Это работа. Инженерная. Строительная, можно сказать.
Он кивнул. Серьёзно кивнул. И снова поставил коробку на коробку.
—
На третий год тётя Зина сказала Вере то, что та и сама давно думала, только вслух не произносила.
— Вер, ты бы за себя тоже поела. Смотри, в чём ты стала.
Они стояли на кухне, папа спал после обеда.
— Всё нормально, тётя Зин.
— Нормально. Пиджак вон как висит. Когда последний раз куда-нибудь ходила? Не в магазин, а так, просто?
Вера задумалась. Выходило, что давно.
— Подруги звонят?
— Звонят иногда.
— Встречаетесь?
Вера поставила чайник.
— Всё как-то времени нет.
— Вот то-то и оно, — сказала тётя Зина и вздохнула. — А Светлана твоя в прошлый раз приехала, так я вышла в магазин и слышу, она тебя выговаривала. Что-то про таблетки.
— Про дозировку. Ей показалось, что я не так даю.
— И что?
— И то, что я медицинскую карту принесла, показала. Всё правильно. Она сказала «ну ладно» и переключилась на что-то другое.
— Ты уж прости меня, старую, Вер, но сестра у тебя… непростая.
— Она не злая, — сказала Вера автоматически. Потом подумала. — Просто у неё другая жизнь. Другие приоритеты.
Тётя Зина помолчала.
— Ты всегда её защищаешь. С детства, поди, так?
Вера не ответила. За окном пошёл дождь, мелкий, осенний.
—
Светлана позвонила в октябре, на четвёртом году.
— Вер, тут такое дело. Мне знакомая рассказала про один санаторий. В Кисловодске. Там реабилитация после инсульта, очень хорошая программа. Папе могло бы помочь.
— Он не транспортабелен, Света. Четыре года прошло.
— Ну а вдруг? Там говорят, результаты очень хорошие.
— Санаторий стоит денег. Откуда деньги?
— Ну вот я и думаю. У папы же дом в Новосёлках. Он стоит, пустой. Его же можно продать, и на эти деньги…
Вера поставила кружку на стол.
— Светлана.
— Что? Это же на лечение. На папино лечение!
— Папин дом, Света. Его решение, не наше.
— Ну так он же не может…
— Именно. Поэтому мы и не вправе.
Пауза.
— Вер, ты хоть понимаешь, что дом там рассыпается? Что его надо продавать, пока хоть что-то за него дадут?
— Папа не хотел бы его продавать.
— Откуда ты знаешь, чего он хотел бы?
Вера смотрела в окно.
— Я знаю, — сказала она. — Он там всю жизнь прожил. Он сам его строил.
Разговор закончился ни чем. Вернее, тем, чем обычно заканчивались их разговоры: Светлана повесила трубку, не попрощавшись.
—
Она приехала через две недели. Приехала не одна. С ней был мужчина в пальто и с папкой. Вера открыла дверь и сразу всё поняла.
— Это Андрей Викторович, — сказала Светлана. Голос у неё был ровный, заготовленный. — Нотариус.
— Зачем?
— Нам нужно оформить доверенность на продажу папиного дома. Для его же блага.
— Светлана, — Вера не повышала голос, — папа не в состоянии выразить осознанную волю. Это любой врач подтвердит.
— Он в состоянии поставить подпись. Андрей Викторович знает, как…
— Нет.
Мужчина переступил с ноги на ногу.
— Позвольте войти, — сказал он. — Мы просто поговорим с Николаем Михайловичем, оценим его…
— Нет, — повторила Вера. — Вы не войдёте.
— Вера! — голос Светланы стал резче. — Это же папины деньги! На его лечение!
— Светлана, хватит. Нет никакого лечения. Есть дом, который ты хочешь продать, и деньги, которые ты хочешь получить. Это другая история.
— Ты обвиняешь меня?
— Я говорю, что вижу.
Нотариус снова переступил с ноги на ногу. Видно было, что он хотел бы оказаться где угодно, только не здесь.
— Вера, — Светлана понизила голос, почти прошипела, — ты понимаешь, что я могу подать в суд? Что я могу добиться официальной опеки? Что тогда я буду решать, как он живёт и где живёт? Он всё равно что овощ, и суд это признает, и тогда…
Из комнаты послышался звук. Вера обернулась.
Папа стоял в дверях своей комнаты. Стоял, держась за косяк, в своих домашних брюках и клетчатой рубашке. Смотрел на Светлану. На нотариуса. Потом на Веру.
Никто не говорил ни слова.
Он медленно повернулся и пошёл обратно в комнату. Они слышали, как он сел в кресло. Как выдвинулся ящик стола. Как что-то шуршало.
Потом снова шаги. Медленные, тяжёлые. Он снова вышел в прихожую.
В левой руке у него была салфетка, бумажная, из тех, что лежали у него на столе в стакане. В правой, плохо слушавшейся правой, был карандаш.
Он прислонился к стене, положил салфетку на ладонь левой руки и начал писать. Медленно. Карандаш дрожал. Буквы выходили неровные, крупные.
Вышло одно слово.
Он протянул салфетку Вере.
Она взяла. Посмотрела.
«ТЕБЕ»
Просто «ТЕБЕ». Больше ничего.
Она смотрела на это слово долго. Секунды три, может, пять. Потом подняла глаза на папу.
Он смотрел на неё. Ясно. Твёрдо. Именно так.
Вера свернула салфетку и убрала в карман.
— Вы слышали, — сказала она нотариусу. Голос у неё был ровный. — Николай Михайлович выразил свою волю. Он знает, кому завещает своё имущество.
Нотариус смотрел на папу. Потом на Веру. Что-то в его лице сдвинулось.
— Светлана Николаевна, — сказал он сдержанно, — я думаю, нам лучше уйти.
— Что? Нет, подождите, он же…
— Нам лучше уйти.
Светлана стояла. Смотрела на отца. Что-то изменилось в её лице, что-то прошло по нему, как рябь по воде, и исчезло.
— Папа, — сказала она.
Он смотрел на неё. Не отвечал.
Она повернулась и вышла. Нотариус за ней. Дверь закрылась.
—
Папа простоял в прихожей ещё немного. Потом медленно пошёл обратно в комнату. Вера шла за ним, помогла сесть в кресло. Он тяжело опустился, выдохнул. Долго смотрел в окно.
— Устал? — спросила Вера.
Кивнул.
— Я чаю сделаю.
Он посмотрел на неё. Что-то в этом взгляде было такое, для чего Вера не знала слова. Не благодарность, нет. Глубже. Как будто человек, который всю жизнь всё делал сам, наконец сказал кому-то: «ты». Просто «ты». И этого было достаточно.
Она пошла на кухню и поставила чайник. Руки у неё немного дрожали. Она постояла, держась за край плиты, пока дрожь не прошла.
—
Светлана больше не приездила.
Позвонила один раз, через неделю. Сказала что-то про то, что Вера «настроила папу против неё», что это «манипуляция» и что она «не обязана терпеть». Вера слушала, не перебивала. Потом сказала «ладно» и повесила трубку.
Потом, говорили, Светлана жаловалась родне. Двоюродной тётке Нине в Саратове, соседке по старой квартире, ещё кому-то. Говорила, что Вера «держит папу в плену», что «не пускает», что «прибирает к рукам имущество». Тётка Нина позвонила Вере сама. Выслушала. Помолчала.
— Ну Вера, ты понимаешь, что Света она такая. Всегда была такой.
— Понимаю, тётя Нина.
— Ты держись. Бог видит.
Больше никто не звонил. Или звонили, но не по этому поводу.
—
Папа умер в феврале, на пятом году. Тихо. Во сне. Вера пришла утром, и он был уже холодный, и лицо у него было спокойное, как у человека, который, наконец, хорошо выспался.
Она сидела рядом долго, держала его руку. Левую руку, которой он завязывал узелки и складывал башни из спичечных коробок. Рука была лёгкая, холодная, и Вера думала о том, что вот, отошла история из жизни. Не притча, не урок, просто жизнь. Человек жил, работал, строил. Потом болел. Потом умер.
Светлана на похороны не приехала. Прислала сообщение: «Простите, не могу. Приеду потом». Потом не наступило.
—
Тётя Зина пришла после поминок. Просто пришла, без звонка, с пирогом на тарелке под полотенцем.
— Вера Николаевна, есть будешь?
— Не хочется.
— Надо. Садись.
Они сидели за кухонным столом. Пирог был с капустой, тёплый ещё. Вера ела маленькими кусочками, тётя Зина пила чай.
— Народу-то сегодня было, — сказала тётя Зина. — Из Новосёлок приехали.
— Приехали. Мужики, с которыми папа работал. Я некоторых и не знала.
— Уважали его.
— Уважали.
Помолчали. За окном была темнота, февральская, глухая.
— Зинаида Ивановна, — сказала Вера, — вы когда-нибудь жалели, что… что сделали что-то правильное? Не о том, что неправильно, а именно что правильно?
Тётя Зина посмотрела на неё поверх чашки.
— Это как понять?
— Ну вот если бы я его в пансион, как Светка говорила. Было бы легче. Мне. Жила бы сама, работала, никуда не торопилась.
— И?
— И ничего. Он бы там сидел. Среди чужих людей. Завязывал бы свои узелки.
— А так?
— А так завязывал здесь.
Тётя Зина поставила чашку.
— Вера, ты меня прости, но ты странный вопрос задаёшь.
— Почему странный?
— Потому что ты сама знаешь ответ. Ты ни разу не пожалела, я тебя четыре года наблюдаю. Ты уставала, ты злилась иногда, я видела. Но не жалела.
Вера смотрела на пирог.
— Светланка хоть позвонила? — спросила тётя Зина.
— Написала.
— Написала. — Тётя Зина покачала головой. — Ну пусть её. Бог с ней.
— Жалко её, — сказала Вера.
— Светку-то?
— Её. Она же не знает ничего. Не знает, как он смотрел, когда его учили садиться в кресло заново. Как злился, когда ложка падала. Как радовался, когда коробки не падали. Не знает про узелки. Ничего не знает. Приедет потом, после, и что у неё останется? Фотографии из соцсетей. И всё.
Тётя Зина помолчала.
— Она сама выбрала, — сказала она наконец.
— Сама. Да.
Снова помолчали. Вера встала, принесла ещё чаю. За окном начинал снег, тихий, не злой.
— Тётя Зина, — сказала Вера, садясь обратно, — а вы знаете, что он мне написал? Тогда, когда Светка с нотариусом пришла?
— Слышала от вас что-то.
— Одно слово. «Тебе». Вот и всё.
Тётя Зина кивнула.
— Я эту салфетку сохранила, — сказала Вера. — В ящике лежит, вместе с другими. «Хлеб», «холодно», «тебе».
— Правильно.
— Не знаю, правильно или нет. Просто…
Она не договорила.
— Просто это его слова, — сказала тётя Зина. — Пусть лежат.
Вера кивнула.
— Пусть лежат, — согласилась она.
Они сидели ещё долго. Пирог кончился. Чай стал холодным. За окном снег лёг на подоконник ровным белым слоем.
— Тётя Зина, — сказала Вера наконец, — спасибо вам.
— За что это?
— За суп. За газеты. За гетры. За всё.
— Ой, — отмахнулась тётя Зина. — Нашла за что. Сосед же был. Человек.
— Человек, — повторила Вера.
Помолчали.
— Ладно, — сказала тётя Зина, вставая, — пойду я. Поздно уже. Ты ложись, Вера. Тебе выспаться надо.
— Лягу.
— И пирог доешь. Там ещё есть.
— Доем.
Тётя Зина оделась в прихожей. Уже у двери обернулась.
— Вер, а узелки на верёвке, ты их… оставишь?
Вера подняла на неё глаза.
— Оставлю, — сказала она.
Тётя Зина кивнула и вышла. Дверь закрылась мягко.
Вера сидела за столом одна. За окном снег шёл и шёл, тихий, февральский. Она не вставала долго. Потом встала, вымыла чашки, вытерла стол. Выключила свет на кухне.
Пошла в прихожую, надела куртку, открыла балконную дверь. Вышла.
На верёвке висело несколько его узелков. Последние, которые он завязал ещё в декабре, когда руки совсем стали плохо слушаться. Кривые, маленькие, едва держались.
Она постояла, держась за перила. Снег падал медленно, без ветра.
Она не стала их развязывать.