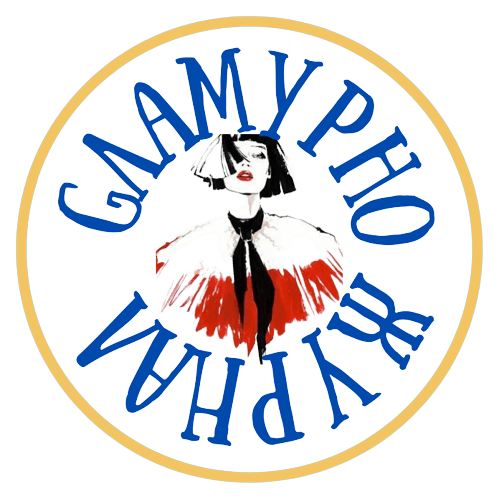Телефон зазвонил в половине девятого вечера, когда Вера Николаевна уже сидела на диване в пальто, хотя никуда не собиралась.
— Ты опять в пальто? — спросила Галина, не дождавшись приветствия.
— Ты откуда знаешь?
— Потому что я тебя знаю двадцать восемь лет, Верочка. И знаю, что когда тебе совсем плохо, ты надеваешь пальто и сидишь как будто кого-то ждешь.
Вера Николаевна посмотрела на свои руки, сложенные на коленях. За окном падал редкий декабрьский снег, и фонарь на углу освещал его бледно, почти безнадежно. Тридцать первое декабря. До Нового года оставалось четыре часа.
— Галочка, я просто задремала, — сказала Вера, и сама услышала, что врет.
— Задремала в пальто. Понятно. Слушай, приезжай к нам. Места хватит, у детей своя комната, накроем стол…
— Нет-нет, ты что. У тебя Костя, дети приедут, Нина Петровна…
На другом конце провода возникла тишина, достаточно долгая, чтобы в ней уместилось что-то несказанное. Нина Петровна была свекровь. И ее имя всегда произносилось с паузой до и после.
— Нина Петровна приедет к восьми, — сказала наконец Галина. — До восьми у меня еще пять поверхностей, которые нужно вытереть, двенадцать тарелок, которые нужно достать из серванта и помыть, потому что они пыльные, хотя я мою их раз в полгода. И оливье на четыре килограмма, который никто не ест, кроме Кости, но он должен быть, иначе «это что вообще за Новый год».
— Ну и как ты?
— Как. Нормально. Купила новый фартук, готовлюсь.
Вера Николаевна улыбнулась, хотя улыбка вышла грустная.
— Я завтра приеду, Галочка. Первого. Привезу свой пирог с капустой, посидим.
— Договорились, — сказала Галина, и в голосе ее было что-то, что Вера умела читать без слов. Что-то усталое. Не от готовки, не от двенадцати тарелок, а от чего-то другого, лежащего глубже.
Они попрощались. Вера Николаевна встала, сняла пальто и повесила его на крючок в прихожей. Посмотрела в зеркало. Семьдесят один год. Седые волосы, убранные назад. Лицо, на котором последние полгода появилось новое выражение, которого она раньше у себя не видела, какая-то незащищенность. Как будто раньше за ней кто-то стоял, а теперь этот кто-то ушел, и она стоит одна, и спина не прикрыта.
Андрей умер в июне. Быстро, от сердца. Они прожили вместе сорок семь лет, и она до сих пор иногда слышала, как хлопает входная дверь, и думала: пришел. И тут же вспоминала. Вот это «тут же вспоминала» было самым тяжелым.
Она прошла на кухню, поставила чайник. За окном бухнуло, первые петарды. Кто-то уже не дождался полуночи.
Вера налила себе чай, села к столу и положила руки на клеенку. За этим столом они с Андреем сидели каждое утро. Он читал газету, она слушала радио. Они не разговаривали, просто были рядом, и в этой тишине был весь смысл. Сейчас тишина была другой. Пустой. Вера допила чай и пошла смотреть телевизор. Там веселились люди в блестящих костюмах, и она смотрела на них с тихим изумлением, как на существ с другой планеты.
В полночь она подняла рюмку с шампанским, которое купила еще неделю назад и не знала зачем. Сказала вслух: «Ну, с Новым годом». Никто не ответил. Она выпила, поставила рюмку и легла спать.
Галина в это время стояла у раковины и мыла посуду.
Стол был накрыт. Дети посидели до часу ночи и уехали, внуки засыпали прямо за едой, и Костя их отвозил на такси. Нина Петровна ушла в половину первого, и Галина, провожая ее, поймала себя на том, что облегченно выдыхает, когда за свекровью закрывается дверь лифта.
Костя вернулся и лег спать, не спросив, нужна ли помощь. Он вообще не спрашивал этого никогда. Просто существовал в пространстве, которое Галина создавала и поддерживала вокруг него.
Она мыла тарелки и думала об этом, без злости, устало. Вот оливье. Вот запеченная курица. Вот нарезка. Все это она придумала, купила, приготовила, накрыла, убрала. А Костя сидел. Смотрел телевизор. Иногда говорил «вкусно» и иногда не говорил даже этого.
На елке мигали гирлянды. Красиво. Она сама вешала гирлянды, поднимаясь на стул.
Последней она вымыла большое блюдо от курицы, вытерла руки и пошла к елке. Села на пол, прямо так, по-детски. Елка пахла хвоей. В детстве она любила этот запах, и сейчас он что-то в ней тронул. Не грусть. Что-то похожее на вопрос: а дальше как?
Подарки лежали под елкой до вечера, потом их раздали. Детям она купила хорошее, не жалела. Косте взяла кашемировый свитер, который он хотел. Себе ничего, как обычно. Себе она всегда брала что-нибудь нужное и недорогое, а в этот раз и того не взяла.
Костя вынес из спальни коробку.
— Галь, вот, — сказал он. — С Новым годом.
Она развернула. Внутри лежали лопатки. Кухонные. Три штуки, в целлофане, с этикеткой «Набор для выпечки». Синие пластиковые ручки. Цена на наклейке была не заклеена, двести восемьдесят рублей.
Галина смотрела на них секунду. Потом еще секунду.
— Спасибо, — сказала она ровно.
— Ты же говорила, что у тебя старые сломались.
— Говорила.
— Ну вот.
Он ушел в спальню. А чуть раньше, когда Нина Петровна еще была за столом, Галина видела, как Костя вынул из кармана маленькую коробочку и вручил матери. Нина Петровна открыла ее и ахнула. Там были серьги. Золотые, с камушком. Настоящие. Костя сказал: «Мам, ты заслужила». Нина Петровна прослезилась. Все умилились.
Галина тогда встала и пошла за следующим блюдом.
Сейчас она сидела на полу у елки и держала в руках три синие лопатки в целлофане. И что-то в ней начало отвязываться. Не громко, не со скандалом. Просто тихо и необратимо, как отходит лед от берега весной.
Она встала. Надела сапоги, куртку, взяла сумку. Ключи. Вышла из квартиры, не хлопая дверью.
На улице было холодно и тихо. Снег лежал свежий, только что выпавший, и она шла по нему, оставляя следы. Куда, она не знала. Просто шла.
Ноги сами принесли ее к роддому. Он был в двух кварталах, она ходила мимо него каждый день и никогда не думала о нем отдельно, просто часть пейзажа. Но сейчас в окнах горел свет, и она зашла. Охранник посмотрел на нее.
— Вы к кому?
— Я… — Галина помолчала. — Я к соседке. Павлова, из двенадцатой квартиры, она должна была сегодня…
Охранник что-то проверил, кивнул.
— Третий этаж, левое крыло. Только недолго, ночь уже.
Соседка Таня лежала в палате одна и смотрела в потолок. Двадцать шесть лет, первые роды, муж примчался и уже уехал, сказал, что дети ждут. Старших детей, от первого брака. Когда Галина вошла, Таня посмотрела на нее удивленно.
— Галина Сергеевна? Вы что здесь?
— Не спится, — сказала Галина просто и села на стул рядом. — Как ты?
— Родила. Девочка. Три двести.
— Красивая?
— Не знаю. Красная и орет. Говорят, так и должно быть.
Они помолчали. За окном мигали чьи-то салюты, отражались в снегу.
— Галина Сергеевна, а вы плакали?
— Нет, — сказала Галина. — Еще нет.
— Я тоже не плакала. Боялась, что буду реветь, а я вот не реву. Странно.
— Иногда самое важное приходит без слез.
Таня повернула голову и посмотрела на нее. Молодое лицо, усталое, но спокойное.
— Что-то случилось у вас?
— Не знаю еще, — ответила Галина честно. — Наверное, случилось. Просто я пока не понимаю, что именно.
Они просидели так около часа. Галина принесла из автомата горячий чай, Таня немного задремала, потом принесли младенца кормить, и Галина деликатно отвернулась к окну. За окном занимался январский рассвет, бледный и серьезный. Первое января. Новый год.
Галина вышла из роддома в седьмом часу утра. Телефон она не выключала, но Костя не звонил. Она и не ожидала.
Дома она разделась, легла поверх одеяла и уставилась в потолок. Потом взяла телефон и написала Вере: «Не спишь?»
Вера ответила через минуту: «Нет. Что случилось?»
«Костя подарил мне лопатки».
Долгая пауза.
«Какие лопатки».
«Кухонные. За двести восемьдесят рублей. А своей маме серьги золотые».
Пауза стала еще длиннее.
«Галочка. Приезжай ко мне».
Галина приехала в десять утра, с пустыми руками. О пироге с капустой никто не вспомнил.
Вера открыла дверь, посмотрела на подругу, ничего не сказала, просто обняла. Они постояли в прихожей, обнявшись, как двадцать лет назад, когда умерла Верина мама и Галина примчалась первой.
— Пойдем чай пить, — сказала наконец Вера.
Они сидели на кухне, и Галина рассказывала. Про лопатки, про серьги, про то, как стояла у раковины и мыла чужую жизнь, которую сама же и приготовила. Вера слушала, не перебивая, только иногда подливала чай.
— Ты знаешь, что самое странное? — сказала Галина. — Я не злюсь. Я даже не обиделась особо. Просто вдруг поняла, что все. Что этого достаточно. Что дальше так нельзя.
— Ты давно это понимала.
— Наверное. Но не разрешала себе.
Вера поставила чашку на стол.
— Галочка, я скажу тебе честно. Я много лет смотрела на вас с Костей и молчала, потому что не мое дело. Но ты всегда делала всё. А он всегда просто был. И это называлось «семья».
— Он не злой человек, — сказала Галина.
— Я знаю. Незлые люди могут причинять очень много вреда. Просто не замечая.
Галина посмотрела в окно. За стеклом шел снег.
— Я хочу развестись, Вера.
Она произнесла это так, как произносят что-то, что долго держали в голове и наконец сказали вслух.
Вера не охнула, не стала переспрашивать. Только кивнула.
— Тогда давай думать, как это делать правильно.
Сначала Галина хотела поговорить с Костей сама. Она подождала, пока он проснется, пока выпьет кофе. Потом вошла в гостиную и сказала:
— Костя, я хочу развестись.
Он посмотрел на нее поверх газеты.
— Это из-за лопаток?
— Это не из-за лопаток. Лопатки, это просто… последнее.
— Не понимаю.
— Я знаю, — сказала она.
Костя отложил газету. Вид у него был не испуганный, а скорее обескураженный, как у человека, которому сообщают о поломке привычного механизма. Не горе, а недоумение.
— Галь, ну ты же понимаешь, что это смешно. Столько лет прожили. Дети взрослые уже.
— Именно поэтому.
— Что «именно поэтому»?
— Именно потому что столько лет. Именно потому что дети взрослые. Дальше уже только мы с тобой, Костя. А у нас с тобой ничего нет.
Он помолчал.
— Куда ты пойдешь вообще?
— Это я решу.
Позвонила Нина Петровна через два дня. Голос у нее был такой, каким он бывает, когда человек готовился к разговору.
— Галина, я понимаю, что у вас с Константином какие-то сложности. Но вы должны понимать, что развод в вашем возрасте…
— Нина Петровна, — перебила Галина спокойно, — вы хотите поговорить о моем возрасте или о чем-то важном?
Пауза.
— Это важно. Семья важна.
— Согласна. Семья важна. Поэтому я и решила сохранить то достоинство, которое у меня еще осталось.
Свекровь повесила трубку. Галина поставила телефон на стол и удивилась сама себе: руки не дрожали.
Вера приехала в тот же вечер с сумкой, в которой были пироги, тетрадь и ручка.
— Ты работала бухгалтером, — сказала она, усевшись за стол. — Значит, у тебя должны быть бумаги. Чеки, квитанции, выписки.
— Зачем?
— Чтобы суд понял, кто в этой семье на самом деле все делал и на что. У вас общее имущество?
— Квартира. Машина.
— Квартира на кого?
— На обоих. Мы в девяносто восьмом покупали.
Вера записала что-то в тетрадь.
— Вот и хорошо. Галочка, ты собирала чеки?
— Я собирала всё. Я бухгалтер.
Галина поднялась и ушла в кладовку. Вернулась с двумя папками.
— Вот. С две тысячи пятнадцатого года. Продукты, ремонт, лекарства, одежда детям. Всё.
Вера открыла папку и некоторое время смотрела на аккуратно подшитые листы.
— Ты знаешь, сколько таких папок я видела за свою жизнь? Ни одной. Ты единственная женщина, которую я знаю, которая хранит чеки из магазина за восемь лет.
— Привычка, — сказала Галина.
— Это не привычка. Это характер. И сейчас этот характер тебе очень поможет.
Адвоката нашла Верина племянница, молодая женщина по имени Оксана, серьезная и немногословная. Она посмотрела на папки Галины и одобрительно кивнула.
— Это хорошо. С этим работать можно.
Костя нанял своего адвоката. Начался бракоразводный процесс, который оказался именно таким, каким его описывают, долгим, утомительным и унизительным в своей бытовой дотошности. Суд спрашивал о кастрюлях. О том, кто платил за ремонт и как делилась зарплата. Адвокат Кости намекал, что Галина «импульсивно приняла решение на почве эмоционального срыва».
— На почве чего? — переспросила Галина у Оксаны в коридоре.
— Не обращайте внимания. Стандартный прием.
— Я двадцать лет вела бухгалтерию строительной компании. У меня не бывает импульсивных решений.
Оксана впервые позволила себе улыбнуться.
Костя пришел к Галине в конце февраля. Она не ожидала, просто открыла дверь и увидела его в коридоре. Он похудел немного, выглядел растерянно.
— Можно зайти?
— Заходи.
Он сел на кухне, огляделся. Квартира была та же, но что-то в ней изменилось: стало меньше его вещей и больше ее. Как будто пространство начало перегруппировываться.
— Галь, может, не надо до суда доводить? Давай как-нибудь договоримся.
— Мы уже в суде, Костя.
— Ну, я имею в виду, мирно. Без дележки всего этого.
— Я не хочу скандала. Но я хочу честно. Квартира оформлена на нас обоих, значит, я получаю компенсацию или долю. Дальше живи как хочешь.
Он помолчал.
— Мама говорит, что ты всегда была… своенравной.
— Мама говорит многое, — ответила Галина ровно. — Но мама не жила со мной двадцать девять лет. А ты жил. И ты знаешь, какой я была.
Он опустил глаза.
Именно в этот момент в дверь позвонили. Галина открыла. На пороге стояла Вера Николаевна с пирогом и с тем выражением лица, которое означало, что она что-то почувствовала и приехала на всякий случай.
Увидев Костю, она остановилась на секунду. Потом прошла на кухню, поставила пирог на стол и повернулась к нему.
— Костя, я правильно понимаю, что ты пришел, чтобы убедить Галину передумать?
Он чуть растерялся.
— Ну, поговорить пришел.
— Поговорить. Хорошо. Тогда я тоже скажу. Я знаю вашу семью двадцать восемь лет. Я видела, как Галина вставала в шесть утра, чтобы тебя накормить перед работой, когда ты сам мог прекрасно сделать яичницу. Я видела, как она в одиночку тащила сумки с рынка, когда ты сидел в машине. Я видела, как на каждый праздник ты дарил маме золото, а жене, в лучшем случае, что-то нужное по хозяйству. Это не упрек. Это просто факты. И теперь ты пришел «поговорить». О чем именно ты хочешь поговорить?
Костя молчал. Вера говорила спокойно, без злости, почти учительским тоном, что было, пожалуй, страшнее крика.
— Ей шестьдесят четыре года, — продолжала Вера. — Она здорова, она умна, она сама себя может обеспечить. У нее есть право на то, чтобы пожить для себя. И это право она ни у кого не просит. Она его берет. Понимаешь разницу?
Костя встал.
— Ты всегда на ее стороне была.
— Да, — согласилась Вера. — Всегда.
Он ушел. Галина смотрела на закрытую дверь, потом перевела взгляд на подругу.
— Я не просила тебя.
— Знаю. Просто иногда нужен кто-то, кто скажет вслух то, что ты и сама думаешь.
Они разрезали пирог. Ели молча, и в этой тишине было что-то хорошее, спокойное, как в детстве, когда сидишь рядом с кем-то близким и не нужно ничего объяснять.
Суд длился четыре месяца. Это было похоже на тяжелую физическую работу: документы, заседания, ожидание в коридорах, бумаги с печатями. Оксана работала четко. Чеки из папок Галины стали серьезным аргументом в пользу того, кто реально вел хозяйство и на чьи деньги, в том числе на ее зарплату бухгалтера, жила семья последние годы. Квартиру решено было продать, Галина получала свою долю.
Костя не скандалил в суде. Просто сидел с таким видом, как будто все это происходит с кем-то другим, а он случайный свидетель.
В июне решение вступило в силу.
Галина позвонила Вере прямо из коридора суда.
— Всё, — сказала она. — Мы выиграли.
— Не «мы выиграли», — ответила Вера. — Ты выиграла. Это твоя победа.
Голос у Галины дрогнул, совсем чуть-чуть.
— Вера. Я не знаю, как я без тебя…
— Ты бы справилась и без меня. Просто со мной быстрее.
Галина засмеялась. Слезы текли по щекам прямо в коридоре суда, и немолодая женщина в сером костюме смотрела на нее с пониманием: похоже, здесь это не было редкостью.
Квартиру продали в сентябре. Галина долго смотрела объявления, ездила на просмотры, и однажды в октябре позвонила Вере в восемь вечера.
— Вера, я нашла.
— Расскажи.
— Второй этаж. Тихая улица. Сорок два метра. Там балкон, представляешь, большой балкон, и с него видно тополь. Старый, огромный. Я смотрела и думала: вот дерево живет сто лет и ничего никому не должно. Просто растет.
Вера помолчала.
— Берешь?
— Беру.
Она въехала в начале ноября. Квартира была пустая, с запахом свежей краски и чужой жизни. Галина привезла свои вещи, расставила их и долго ходила из комнаты в комнату. Потом вышла на балкон. Тополь стоял темный, уже без листьев, но огромный и спокойный.
Вера приехала на следующий день с занавесками.
— Откуда ты знала размер окон?
— Я спросила риелтора. Я прагматичная.
Они вешали занавески, переставляли мебель, спорили о том, куда поставить маленький комод, который Вера привезла из собственного кладовки.
— Ты мне отдаешь комод?
— Он там стоит пятнадцать лет и ни разу не пригодился. Пусть хоть у тебя будет.
Галина гладила темное дерево комода.
— Андрей его привез?
— Мы вместе купили. На рынке в девяносто третьем году. Везли на трамвае, он нес на плече, люди оглядывались. Возьми, пусть стоит.
Галина поставила комод под окно, в самое солнечное место.
В декабре Вера сказала:
— Давай поедем на море. В январе. После Нового года.
Галина посмотрела на нее.
— Куда на море?
— Ну, не в Антарктиду же. Куда-нибудь, где тепло и нет снега. В Турцию, например. Или в Грецию, там зимой дешевле.
— Я никогда не была на море в январе.
— Я тоже. Вот и поедем.
— А как же… — Галина запнулась.
— Что?
— Ну, я не знаю. Мы же не молодые уже. Одни.
Вера посмотрела на нее с легким изумлением.
— Галочка. Нам с тобой на двоих сто тридцать пять лет. Мы пережили советскую власть, девяностые, потерю мужей, один реальный, другой юридический. Мы что, с пляжем не справимся?
Галина засмеялась, неожиданно громко.
Они поехали в середине января. Греция, маленький городок, не туристический совсем, тихий, с белыми домами и синими ставнями. Море в январе было серым и серьезным, не летним, не праздничным, но живым. Оно дышало, двигалось, шумело.
Они сидели на берегу во второй день. Галина в куртке и шарфе, Вера в своем вечном синем пальто. Волны накатывали на берег и отходили назад, и в этом движении было что-то успокоительное.
— Вера, — сказала Галина.
— Что?
— Ты скучаешь по Андрею?
Вера долго смотрела на воду.
— Каждый день. Но по-другому теперь. Сначала это было как рана. Сейчас это как… ну, как шрам. Есть, чувствуется иногда, но уже не болит так остро.
— Я боялась тебе сказать, что мне кажется, что ты держишься.
— Я держусь, — согласилась Вера просто. — Потому что я знаю, что он бы хотел, чтобы я держалась. Он вообще не любил, когда я раскисала. Говорил: «Ну, Верка, хватит, что поделаешь, жить надо».
— Хороший был человек.
— Очень. Несовершенный, но очень хороший.
Они помолчали. Чайка уселась в нескольких метрах от них и смотрела с профессиональным интересом.
— А ты? — спросила Вера. — Ты жалеешь?
Галина подумала. Честно, без торопливости.
— О разводе, нет. Совсем нет. Жалею, что так долго ждала. Жалею, что был период, когда мне казалось, что я должна терпеть, потому что так принято, потому что возраст, потому что что люди скажут. Глупо.
— Не глупо. Нас так учили.
— Ну вот. А оказалось, что жизнь не заканчивается в шестьдесят.
— Еще чего, — фыркнула Вера.
Волна прошла, оставила на камне полоску пены. Галина смотрела, как пена оседает и исчезает.
— Дочка звонила вчера, — сказала она. — Маша. Сказала, что папа ей жаловался. Что я поступила жестоко.
— А ты что ответила?
— Что я ее люблю. И что это мое решение. Она помолчала и сказала: «Мам, я понимаю». Я не знаю, правда понимает или нет. Она взрослая, у нее своя жизнь, своя семья. Посмотрим.
— Посмотрим, — согласилась Вера.
Эта тема осталась вот так, приоткрытой, как форточка. Там было что-то еще, что предстоит прояснять и выстраивать заново, долго, не за один разговор.
— Знаешь, что я сделала первым делом в новой квартире? — спросила Галина.
— Что?
— Выкинула эти лопатки. Все три. В мусоропровод.
Вера посмотрела на нее.
— И как?
— Хорошо. Честно говоря, очень хорошо. Потом купила себе нормальные, деревянные, которые мне нравятся. Дорогие, с красивой ручкой. Просто потому что хотела.
Они обе замолчали на несколько секунд. Море дышало.
— А балкон? — вспомнила Вера. — Ты освоила?
— Поставила там кресло и маленький столик. Утром пью кофе и смотрю на тополь. Он сейчас голый, конечно, но я жду весны. Интересно, какой он будет в мае.
— Огромный, — сказала Вера уверенно. — Старые тополя в мае очень красивые. Ты увидишь.
— Ты думаешь, правда?
— Я уверена, — ответила Вера и, помолчав, добавила: — Знаешь, я тут думала. Мне надо разобрать наконец антресоли. Там столько Андреевых вещей, я все откладывала. Может, ты мне поможешь?
— Конечно. Когда вернемся.
— Когда вернемся.
Солнце низкое, зимнее, клонилось к горизонту. Море меняло цвет, из серого становилось розоватым, почти нежным. Галина смотрела на него и думала, что никогда раньше не видела моря в январе и не знала, что оно бывает таким.
— Вера.
— Что?
— Хорошо, что мы приехали.
— Да, — согласилась Вера. — Хорошо.
Чайка рядом подняла крыло, поправила перо и снова замерла. Волна пришла, коснулась камней и ушла. Потом пришла следующая.