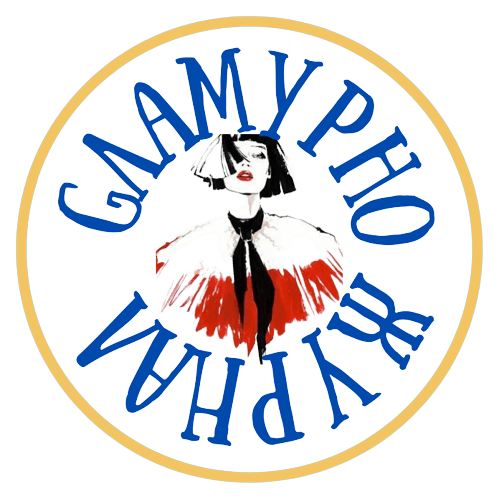Он стал забывать простые вещи.
Сначала не мог вспомнить, какой йогурт любит сын: с клубникой или с персиком. Потом – в какой день недели у него плавание. Потом – выезжая с парковки, на секунду забыл, на какой передаче обычно трогается с места.
Рывок заглохнувшего двигателя отозвался паникой внутри, и он несколько минут сидел, сжав руль и боясь посмотреть в зеркало.
Вечером сказал об этом жене:
– Со мной что-то не так. Все время какой-то туман голове.
Она положила свою ладонь ему на лоб, потом на щеку – привычный, десятилетний жест.
– Ты просто устал, Игорь. Спишь мало. Работаешь много.
Хотелось крикнуть: «Это не усталость! Это… как взять ластик и стереть человека по кусочкам!», но промолчал.
Испуг в ее глазах был страшнее его собственного страха.
***
Он стал все записывать в блокнот.
– Сегодня четверг.
– Забрать Максима в 17:30.
– Купить хлеб, «Бородинский», а не «Дарницкий». Маша не ест «Дарницкий».
– Позвонить маме в воскресенье. В 12.00. Обязательно спросить про давление.
Вскоре телефон стал его продолжением. Без него он чувствовал себя беспомощным, бесполезным.
Просто телом в знакомом пространстве.
***
Однажды он действительно потерялся.
Не в лесу, не в чужом городе, а в своем районе, где прожил семь лет.
Шел от метро привычным маршрутом, думал о чем-то своем, поднял голову – и не узнал перекресток. Знакомая аптека куда-то исчезла, на ее месте сияла вывеска кофейни, которой тут никогда не было.
Игорь замер, чувствуя, как холодный пот выступает под рубашкой.
А люди, как ни в чем ни бывало, шли мимо, не обращая внимания на растерявшегося мужчину.
Мир вдруг стал чужим и безразличным.
Он достал телефон дрожащими пальцами, открыл карту. Синяя точка мигала на незнакомой улице. Вбил домашний адрес и пошел, слепо следуя за механическим голосом, чувствуя себя мальчишкой, которого впервые отправили в магазин одного.
Домой вернулся на три часа позже.
Маша молча поставила перед ним чашку чая. Ее молчание было хуже любой истерики. Он не знал, куда деваться от стыда.
– Я записала тебя к неврологу, – наконец сказала она, не глядя мужу в глаза, – в среду, в четыре. Я с работы отпрошусь, схожу с тобой.
Он кивнул, глотая комок в горле. Мысль о больнице, о белых халатах, о «ранних признаках» и «возрастных изменениях» вызывала животный ужас.
Ну вот. Теперь ему придется стать «пациентом». Тем, о ком говорят в третьем лице.
***
В среду утром, пока Маша собиралась в ванной, он машинально взял ее телефон посмотреть погоду. Его собственный лежал на зарядке.
На экране Игорь увидел открытые вкладки:
«Деменция. Ранние симптомы у мужчин 45 лет».
«Как вести себя с супругом, у которого проблемы с памятью».
«Группы поддержки для семей».
«Оформление опекунства».
Он отшвырнул телефон, словно тот обжег ему руку. Сел на край кровати, задыхаясь. Это было не просто медицинское заключение. Это был приговор их общей жизни. Их будущего. Она уже не видела в нем мужа, партнера, отца ее ребенка. Она видела проблему. Объект для ухода.
Будущую обузу…
***
День в поликлинике прошел как в плотном, звуконепроницаемом колпаке.
Он отвечал на вопросы, проходил тесты, типа: «Назовите три слова: яблоко, стол, монета. Запомните их». Смотрел на свет фонарика. А внутри грохотала только одна мысль, прочитанная утром на экране: опекунство.
Когда они вышли из поликлиники, уже смеркалось. Маша взяла его под руку, крепко, почти судорожно.
– Ну вот, – голос ее был неестественно бодрым. – Доктор сказал, что ничего критичного. Перенапряжение. Нужно больше отдыхать. Поедем домой, я суп разогрею. Так есть хочется…
Он смотрел на ее профиль, на плотно сжатые губы, на морщинку тревоги у глаза…
Она играла. Играла роль любящей жены, которая верит в лучшее. Но он-то все видел. Видел страх. Видел усталость. Видел бесконечную вереницу будущих дней, где он будет все больше превращаться в ребенка, а она – в сиделку.
Они подошли к машине. Маша протянула ему ключи.
– Давай ты. Ты же лучше паркуешься.
Это был тест. Простой и беспощадный. Он взял ключи, сел за руль. Включил зажигание. И… забыл. Забыл, где поворотники. Рука повисла в воздухе, не найдя привычного рычага.
Он смотрел на панель, на знакомые до боли кнопки, и они не складывались в целую картину. Они были сейчас как рассыпанные буквы…
Он закрыл глаза. Глубоко вдохнул.
– Маш… – голос его сорвался, – я не могу…
В тишине салона его слова прозвучали как приговор. Окончательный и бесповоротный.
Он ждал упреков, слез. Возможно, каких-нибудь ободряющих слов. Но Маша просто открыла свою дверь, обошла машину, открыла его. Мягко коснулась его плеча.
– Подвинься.
Он покорно переполз на пассажирское сиденье.
Она села за руль, пристегнулась, плавно тронулась с места. Смотрела прямо на дорогу. И только раз, на светофоре, что-то смахнула тыльной стороной ладони со щеки.
Очень быстро…
***
Он смотрел в боковое окно на мелькающие огни чужого, непонятного города. И понимал, что он уже не просто забывает дорогу домой. Он забывает дорогу к самому себе.
А та женщина за рулем, его жена, все больше становится просто доброй, уставшей незнакомкой, которая невесть куда везет беспомощного пассажира.
И самое страшное было в ее молчании. В том, что она, похоже, уже смирилась с этим маршрутом.
***
Началась тихая война с болезнью, с собой и с тем, что осталось от их семьи.
***
Маша ввела новую систему.
На холодильник повесила большой календарь с жирными отметками: «Анализы», «Невролог», «ЛФК». На дверцы шкафов – стикеры с их содержимым.
Она купила ему таблетницу, аккуратно раскладывала в ней каждое утро витамины, ноотропы, успокоительное.
Она звонила каждый час, контролируя его передвижения, занятия, прием лекарств и даже мысли.
***
Их сын Максим, десятилетний мальчик, почувствовал напряжение раньше, чем понял его причину.
Он стал неестественно тихим.
Однажды Игорь, помогая ему с математикой, впал в ступор перед простейшим уравнением. Цифры плясали перед глазами, не складываясь в смысл. Он видел, как сын смотрит сначала на него, потом на маму, испуганно и вопросительно.
Маша быстро подсела к ним:
– Папа просто устал, давай я…
Сын кивнул, но отстранился. В его взгляде появилась осторожность, будто папа превратился в хрупкий, непредсказуемый предмет.
***
Маша…
Они практически перестали ссориться.
Раньше могли накричать друг на друга из-за немытой посуды, хлопнуть дверью, а через час, обнявшись, смеяться над своей глупостью.
Теперь Маша только вздыхала и молча мыла тарелку за ним. Ее терпение казалось ему добродетелью тюремного надзирателя – безупречной и убийственной.
Он ловил себя на мысли, что ждет ее срыва.
Ждет, когда она крикнет «Да когда же это кончится?!» или разрыдается от бессилия. Это было бы честно. Это означало бы, что она все еще здесь, с ним, в одной лодке несмотря на то, что эта лодка наполовину заполнена водой…
Но она держалась…
И это для него было страшнее всего.
***
Однажды вечером, когда Игорь в пятый раз за час спросил, выключил ли он утюг, Маша не выдержала.
Нет, она не крикнула. Она тихо сказала, глядя мимо него:
– Игорь, я так устала…, что боюсь уснуть за рулем, когда везу Макса в школу.
В ее голосе не было упрека. Была простая, исчерпывающая констатация факта.
И от этой простоты ему стало еще хуже. Еще невыносимее.
***
В какой-то момент Игорь решил записывать все, что связано с Машей.
Чтобы не забыть…
Писал в тот же черный блокнот.
Рядом с «купить серый хлеб», появлялись заметки:
– Маша смеется, запрокидывая голову, когда ей и правда смешно.
– На левой ключице у нее родинка, похожая на звездочку. Она ее стесняется, всегда прячет.
– Когда Маша очень устает, то морщит переносицу, даже во сне.
– Она любит кофе с корицей.
– Мага любит свою старую кофту.
Игорь ловил эти крупицы, как утопающий обломки корабля. Понимал: скоро он может забыть не только дорогу домой, но и то, почему этот дом был для него домом. Забыть, за что он любил эту женщину.
И тогда… Она окончательно превратится в простую сиделку.
Он писал, чтобы сохранить ее для себя. И, как ни парадоксально, в этом отчаянном документировании к нему вернулось что-то похожее на чувства. Не прежняя страсть, конечно, а острая, щемящая нежность к деталям, которые он раньше просто не замечал.
А что же Маша?
Она видела этот блокнот. Видела, как он, сосредоточенно нахмурившись, что-то в него строчит.
Однажды, когда Игорь забыл его на столе, не удержалась. Полистала. Прочла про смех, про родинку и морщинку на переносице.
И расплакалась.
Впервые за много месяцев – не от усталости и отчаяния, а от пронзительного, невыносимого узнавания.
Он писал не о болезни. Он писал о ней. Настоящей. Той, которая, казалось, уже растворилась в роли жены тяжело больного человека.
В тот вечер она не стала разогревать ужин. Она взяла его за руку – не так, как вела к врачу, а по-другому, неуверенно, – и сказала:
– Послушай, мне не хочется сегодня готовить. Пойдем в ту самую пиццерию, где мы были после первого свидания. Если ты… еще помнишь, какую пиццу ты тогда заказывал.
Он посмотрел на нее, и в его глазах, помутневших от страха и таблеток, на миг блеснула искра. Не памяти. А чего-то другого.
– С ветчиной и грибами, – тихо сказал он. – А ты – вегетарианскую, с ананасами. Ты тогда сказала, что это экзотично.
Она сжала его руку и кивнула, не в силах вымолвить ни слова.
Это не было исцелением. Болезнь никуда не делась.
Завтра он снова мог забыть, как завязывать шнурки.
Сын мог снова отстраниться. А она – сорваться.
Но в этот вечер в пиццерии, за липким столиком, они ненадолго перестали быть пациентом и сиделкой. Они снова стали Игорем и Машей, которые потерялись, но в какой-то момент, в тишине между слов, снова нашлись.
***
Пиццерия оказалась яркой, шумной и чужой. Не той уютной забегаловкой из их воспоминаний, а гламурным местом с неоновыми вывесками и громкой музыкой.
Игорь нервно теребил салфетку, глаза бегали по меню, ища знакомые названия.
Пицца «Ветчина и грибы» была, но называлась как-то по-другому.
Он растерялся.
– Закажи ту, что хочешь сейчас, – тихо сказала Маша.
В ее голосе не было раздражения. Было понимание. Страшное, выстраданное понимание.
Он кивнул, указал пальцем на первую попавшуюся картинку.
Она заказала вегетарианскую.
Когда пиццу принесли, Игорь взял кусок, откусил и замер.
– Не то, – пробормотал он. – Совсем не то.
– Вкус другой? – спросила Маша.
– Нет. Я… не помню тот вкус. – Он положил кусок на тарелку и посмотрел на него с таким потерянным отчаянием, что у нее сжалось сердце.
А он страдал не из-за рецепта. Он страдал, потому что память про их первое свидание – сладкая, теплая, пахнущая дрожжами и надеждой, ускользнула от него. Стерлась.
Теперь осталась только смутная тень и факт, записанный в блокноте: «Мы были там. Нам было хорошо».
***
Игорь отодвинул тарелку.
– Давай посидим просто так, – предложил он.
И впервые за много месяцев это прозвучало не как капитуляция больного, а как просьба равного. Просто посидеть рядом.
Маша медленно протянула руку через стол и накрыла своей ладонью его ладонь. Не сжимая, просто касаясь…
***
После этого все изменилось.
И не изменилось ничего.
Календарь на холодильнике висел по-прежнему. Таблетницы заполнялись.
Но теперь Маша, прежде чем вручить ему утреннюю порцию таблеток, спрашивала: «Как спалось? Голова не болит?»
Спрашивала не как медсестра, а как любимая женщина, жена…
А он, вместо того чтобы кивать, пытаться отвечать подробно:
– Сны странные. Как будто я в доме из стекла, все комнаты видны, а дверей нет.
Она слушала. Кивала. И в эти моменты болезнь становилась не врагом, которого они стыдливо прятали, а тяжелой, общей ношей, которую они несли вдвоем. Вместе.
Сын, Максим, стал их барометром. Он видел, что мама перестала вздрагивать, когда папа что-то забывал.
Что папа иногда, вместо того чтобы злиться на себя и на тех, кто рядом бросает с улыбкой:
– Черт, вылетело из головы. Макс, напомнишь?
И в этом «напомнишь?» не было уничижения, была просьба о помощи.
Мальчик чувствовал, что напряжение спало. Однажды он принес из школы рисунок – их троих, держащихся за руки, под сияющим солнцем. Подписал: «Моя семья. Мы сильные».
Игорь повесил рисунок на холодильник поверх графика приема таблеток…
***
А болезнь никуда не девалась.
Она была коварна.
То отступала, давая ложную надежду, то наносила удары в самых неожиданных местах.
Однажды утром Игорь проснулся и не узнал Машу. Он смотрел на женщину, лежащую рядом, с леденящим ужасом непонимания. Кто она? Что делает в его кровати?
Паника поднялась комом в горле. Он резко отпрянул к стене.
Маша открыла глаза, увидела его взгляд – дикий, отчужденный – и все поняла.
Ее сердце упало, но паники не было. Пришла бесконечная, вымотанная грусть.
– Игорь, – тихо сказала она, не двигаясь с места, чтобы не напугать его еще больше. – Это я. Маша. Твоя жена.
Он молчал, дыхание частое, поверхностное.
– У тебя в блокноте есть запись, – продолжала она ровным, спокойным голосом, каким разговаривают с испуганным животным. – Про родинку в виде звездочки. Хочешь, я покажу?
Он медленно кивнул. Она аккуратно, не резко, сдвинула майку с плеча, показала ту самую родинку на ключице. Он смотрел на нее, потом в блокнот, который всегда лежал на тумбочке. Сравнивал. В его глазах медленно рассеивался туман паники, сменяясь стыдом и таким бессильным горем, что она не выдержала, отвернулась.
– Прости, – прошептал он хрипло. – Прости, я…
– Не надо, – перебила она, все еще не глядя на него. – Не надо извиняться. Просто… просто лежи. Все хорошо.
Она встала, пошла варить кофе. Руки дрожали. Это было не «хорошо». Это был новый уровень. Хуже, чем забыть дорогу. Забыть ее лицо. Забыть любовь всей своей жизни. И она поняла, что их перемирие, их нежные вечера – это не ремиссия. Это лишь передышка в долгой, нисходящей спирали…
Но когда она вернулась в спальню с двумя кружками, он сидел на краю кровати и что-то быстро писал в блокнот.
– Что ты пишешь? – спросила она, ставя кофе на тумбочку.
Он показал.
Кривыми, торопливыми буквами было выведено:
«Утро. Проснулся. Испугался. Увидел звездочку на ее ключице. Узнал. Это Маша. Моя. Любимая. Запомнить любой ценой».
Он не написал «жена». Он написал «любимая».
Маша взяла кружку, сделала глоток обжигающего кофе, чтобы прогнать комок из горла.
Слезы были бесполезны. Обида – бесполезна.
Оставалось только это: его отчаянные записи и ее безмолвное присутствие рядом.
Она села к нему поближе, прижалась плечом к его плечу.
– Кофе остынет, – сказала просто.
И он, все еще бледный, дрожащий, кивнул и взял свою кружку. Пальцы обхватили ее, ища тепло, ища связь с реальностью.
Впереди было не одно такое утро.
Множество потерь. Маленьких и больших.
Возможно, блокнот скоро перестанет помогать Игорю.
Возможно, сын вырастет и будет с болью вспоминать отца, который ушел, постепенно растворяясь в окружающем мире.
Возможно, Маша не выдержит такого груза.
Но в этот момент, в лучах утреннего солнца, падающего на кривые строчки в блокноте, они были вместе. Не в прошлом, которое ускользало, и не в будущем, которое пугало.
А в настоящем.
Хрупком, разбитом, несовершенном. Единственном, что у них оставалось.