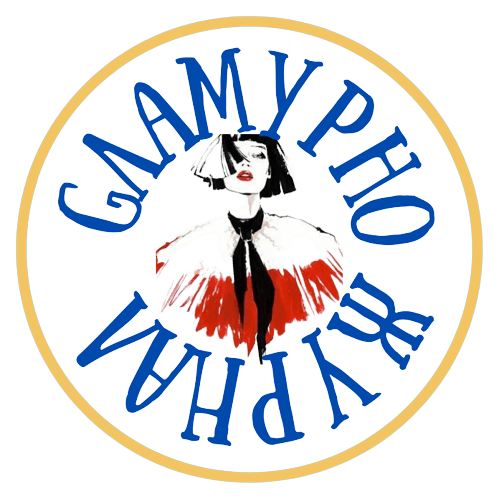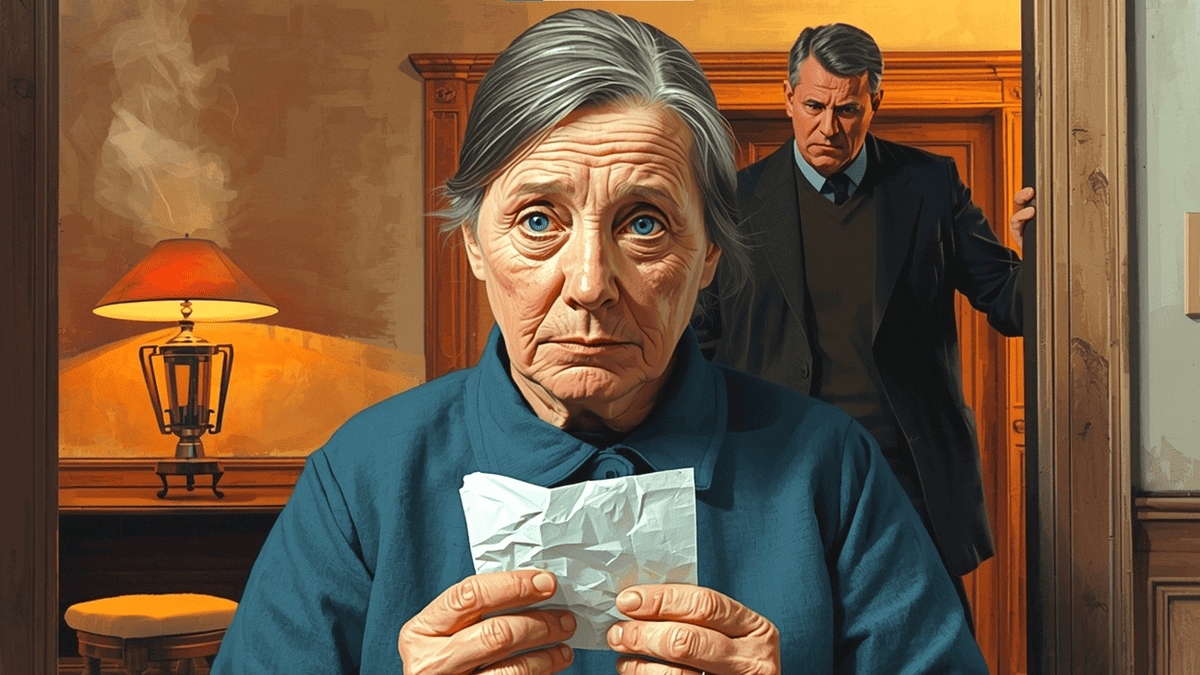— Садись, Николай. Садись, говорю, чего встал?
Анна Петровна гремела кастрюлями, не глядя на мужа. Суп булькал на плите, пар щипал глаза, а она всё мешала, мешала деревянной ложкой, будто в этом котле можно было утопить всё, что накипело за последние недели.
— Сергей сказал: к следующей пятнице управятся. Участковый там свой человек, и в сельсовете тоже. Прижмут к ногтю и Катьку эту, и мамашу её. Нечего тут гнёзда вить.
— Аня…
— Что «Аня»? Я тебе русским языком: сын наш, единственный, из-за этой юбки жизнь себе погубит. Отец у неё пил, дядька в тюрьме сидел. Это порода, Коля, порода. Её не перепишешь.
Она резко обернулась, уже готовая к возражениям, к его вечному «ну ты это брось», к его мятым словам, которыми он всегда тушил её огонь.
Николай стоял у двери. Не садился. Держался рукой за косяк, и лицо у него было такое, словно земля под ним пошла.
— Коля, ну что ты опять? Опять спектакль?
— Ты… ты уже сделала это?
Голос был не его. Чужой какой-то, хриплый, будто из-под воды.
— Что сделала? Защитила сына? Да, сделала. И не стыжусь.
Он медленно осел. Рука съехала по косяку, и он сел прямо на пол, привалившись к стене. Глаза закатились куда-то вверх и в сторону.
— Ой, не начинай! Сколько раз уже, как поспорим, так у тебя сразу сердце, сразу давление…
Она повернулась к плите, убавила огонь под супом.
— Приду от Нинки, чтоб успокоился. Таблетки на тумбочке.
Хлопнула дверь.
—
Нинка жила через три дома. Анна Петровна просидела у неё почти до девяти, пила чай, жаловалась на Катьку, на Лёшку, который не слушается, на мужа, который всё принимает в штыки. Нинка кивала, поддакивала, подливала чай.
Когда Анна Петровна вернулась, свет в комнате не горел.
Она щёлкнула выключателем.
Николай так и сидел у стены. Только теперь уже совсем.
—
Поминки справляли на пятый день. Стол накрыли в горнице, набилось человек сорок, половину она плохо знала. Пришли из соседних домов, с работы Николая, кто-то из района приехал. Все говорили правильные слова, все смотрели с одинаковым выражением, которое значило сочувствие и одновременно облегчение, что не к ним.
Анна Петровна сидела во главе стола и почти не слышала, что ей говорят. В ушах стоял гул. Кто-то вложил ей в руку рюмку, она выпила не почувствовав.
Лёша сидел напротив. Он приехал на следующий день после смерти отца, прямо с Катькой. Анна Петровна хотела сказать что-нибудь, но промолчала. Не время было.
Он почти не смотрел на неё. Занимался делами, звонил в морг, в администрацию, оформлял бумаги. Делал всё правильно, как надо, только молча.
Катька держалась в стороне. Тихая, бледная, помогала на кухне, мыла посуду, выносила тарелки. Анна Петровна старалась на неё не смотреть.
Сергей пришёл к концу поминок. Выпил, поставил рюмку, наклонился к Анне Петровне и сказал вполголоса, почти в ухо:
— Вовремя остановили. Николай Иванович успел к нам заехать. В пятницу это было. Сказал, чтоб мы всё прикрыли. Что он сам разберётся. Я, конечно, уважил. Мужик он был порядочный.
Анна Петровна не сразу поняла. Потом переспросила шёпотом:
— Как в пятницу? Он же был дома в пятницу вечером.
— Был. Это он уже обратно ехал. Ко мне с утра заскочил.
В пятницу с утра он сказал, что едет в район. По делу. Она не спросила по какому. Было не до того, она с Нинкой собиралась в магазин.
Значит, он знал. Знал про Сергея, про Катьку, про всё. Знал и поехал останавливать. А вечером вернулся и пытался ей сказать.
А она сказала: «Опять спектакль».
Сергей уже отошёл, налил себе ещё. Гул в ушах стал громче.
—
Нинка потом рассказала, что в деревне говорили разное. Что участковый вызывал Валентину, Катькину мать. Дважды. Что Катьке на работе, в библиотеке, намекнули, что место ненадёжное. Что кто-то написал письмо в райцентр, анонимное, с разными словами про Валентину.
— Мало ли кто написал, — сказала Анна Петровна.
Нинка посмотрела на неё долго. Потом отвела глаза.
— Конечно, — сказала она. — Мало ли.
Больше они про это не говорили.
—
Лёша уходил через неделю после похорон. Анна Петровна слышала, как он ходит по комнате, открывает шкаф, что-то складывает. Она сидела на кухне, держала кружку с остывшим чаем, не пила.
Он вышел с сумкой.
— Мама.
— Куда ты.
— Ты знаешь куда.
— Лёша, подожди. Я хотела как лучше. Ты же понимаешь? Я за тебя переживала.
Он поставил сумку на пол. Сел на табуретку напротив. Посмотрел на неё, и от этого взгляда у неё что-то сжалось под рёбрами.
— Ты знаешь, что Катина мама второй день не встаёт? Давление такое, что скорую вызывали. Она думала, что её за что-то посадят. Она не понимала, за что.
— Никто её не собирался сажать.
— Мама. Участковый приходил. На работу письма писали. Соседи косились. Ты понимаешь, что ты сделала с живым человеком?
— Я думала о тебе.
— Нет. — Он встал, взял сумку. — Ты думала о себе. О том, что ты хочешь. О том, какой должна быть жена твоего сына. А папа поехал это останавливать и не успел тебе объяснить, а ты…
Он не договорил.
— Лёша.
— Прощай, мама.
Дверь закрылась без хлопка. Тихо. Это было хуже, чем если бы хлопнул.
Анна Петровна сидела над остывшей кружкой ещё долго. За окном смеркалось. Кот запрыгнул на колени, потоптался, свернулся. Она его не прогнала.
—
Валентина умерла в начале зимы. Говорили, что сердце. Говорили, что давно болела. Говорили, что сильно переживала.
Катька и Лёша хоронили её вдвоём, почти без людей. Анна Петровна на кладбище не пошла. Стояла за занавеской и смотрела, как они идут мимо по улице, и Катька несла цветы, и Лёша держал её за руку.
В тот вечер Анна Петровна впервые не смогла есть. Сварила картошку, поставила на стол, посмотрела на неё и убрала обратно.
Потом она часто так делала. Варила, убирала, не ела.
Через месяц они уехали. Насовсем.
—
Деревня пустела медленно, как пустеют все маленькие деревни. Сначала закрылся магазин, потом автобус стал ходить раз в неделю, потом через два дома умерла старая Прохоровна, и дом её заколотили.
Анна Петровне шёл пятьдесят девятый год. Потом шестидесятый. Потом шестьдесят первый.
Кот умер на третье лето. Она закопала его у яблони и не завела другого.
Каждое утро она вставала, умывалась, надевала тот же халат, варила кашу или яйцо, ела без вкуса. Потом брала старый платок, повязывала его низко, и шла на кладбище.
До кладбища было идти минут двадцать, по просёлку через поле, а зимой, когда заметало, и все сорок. Она ходила в любую погоду. В дождь, в снег, в осеннюю грязь, которая тянула сапог к земле с каждым шагом.
У Николая она стояла долго. Говорила вслух. Соседних могил давно никто не навещал, слышать её было некому.
— Коля. Картошку выкопала. Вся мелкая в этом году, земля сухая была. Помнишь, ты говорил, что надо было с весны полить? Ты всегда говорил правильно. Ты вообще говорил правильно, а я не слушала.
Она поправляла цветы. Пластмассовые, с кладбищенского лотка, потому что живые засыхали за два дня.
— Лёша не звонит. Нинка говорит, видела его в интернете, там карточка какая-то есть, где всё пишут. Я не умею. Ты бы умел, ты в технике понимал. Научил бы меня.
Потом шла к Валентине.
Могила у неё была скромная, крест деревянный, цветы пластмассовые, как у всех. Фотографии не было. Может, не успели, может, не было денег на хорошую.
Анна Петровна ставила и сюда цветы. Каждую неделю, одинаково с мужем.
Здесь она не говорила долго. Стояла. Иногда говорила одно слово.
— Прости.
Просто так. В пустоту. Потому что больше некому было говорить это слово, а носить его в себе уже не было места.
—
Нинка заходила иногда. Приносила что-нибудь, пироги или варенье. Садилась, пила чай. Они говорили про огород, про погоду, про соседей, которых почти не осталось.
Про Лёшу не говорили.
— Тебе бы к врачу съездить, — сказала однажды Нинка. — На лицо плохая стала.
— Обойдусь.
— Аня.
— Нина. Не надо.
Нинка замолчала. Допила чай, ополоснула кружку, ушла. Анна Петровна смотрела ей вслед из окна.
За окном стояла бесконечная февральская белизна, и ни единого следа на снегу, кроме Нинкиных.
—
На шестой год одиночества она начала разговаривать с Николаем дома. Не на кладбище, а так, просто. Войдёт в комнату, где стоит его кресло, и скажет что-нибудь. Про погоду, про рассаду, про то, что крыша опять потекла.
Она знала, что это странно. Ей было всё равно.
На седьмой год она стала хуже слышать левым ухом. Поехала в район, ей что-то прописали, она пила таблетки неделю и бросила. Зачем хорошо слышать, когда слушать нечего.
На восьмой год, в конце сентября, позвонил Лёша.
—
Телефон зазвонил вечером. Анна Петровна сидела с вязаньем у лампы, увидела незнакомый номер и чуть не сбросила, но что-то остановило руку.
— Алло.
— Мама.
Она не сразу поняла. Голос был другой. Не Лёшкин, взрослый, с хрипотцой.
— Лёша?
— Я. Мама, мы… Мы хотели приехать. Если ты не против.
Долгая тишина. Она слышала своё дыхание и его дыхание, и где-то там, на его конце провода, детский голос что-то спросил, и Лёша ответил вполголоса: «Погоди, сынок».
Сынок.
— Когда? — спросила она.
— В пятницу. Если ты…
— Приезжайте.
Она нажала «сброс» и долго сидела с телефоном в руках. Потом встала и пошла в кладовку, смотреть, что есть из муки.
—
Они приехали в пятницу во второй половине дня. Она услышала машину ещё от огорода, разогнулась, прикрыла глаза рукой от солнца.
Лёша вышел первым. За восемь лет он раздался в плечах, виски тронула ранняя седина, как у Николая в сорок. Посмотрел на неё через забор.
— Мама.
— Заезжай, чего стоишь.
Потом вышла Катька. Совсем не изменилась, только взгляд стал другой. Тише, что ли. Держала за руку мальчика лет пяти, серьёзного, в клетчатой рубашке. На руках у неё был ещё один, маленький, годика три, лупал глазами.
— Здравствуйте, Анна Петровна.
— Здравствуй.
Больше ни та, ни другая ничего не сказали. Анна Петровна открыла калитку и пошла к дому.
—
Вечером она накрыла стол. Картошка, квашеная капуста, грибы, которые сушила всё лето. Достала из погреба огурцы. Нарезала хлеб.
Старший, Митя, сразу потянулся к хлебу. Лёша хотел одёрнуть его, но Анна Петровна сказала:
— Пусть берёт. Свежий, утром пекла.
— Спасибо, — сказал Митя. Серьёзно, как взрослый.
Младший, Тимоша, сидел на коленях у Кати и смотрел на Анну Петровну с той особенной детской внимательностью, когда непонятно: боится или просто думает.
— Бабушка? — спросил он вдруг.
Катя что-то сказала ему тихо, на ухо. Он кивнул и уткнулся ей в плечо.
Анна Петровна разлила суп.
— Ешьте.
За столом почти не говорили. Лёша сказал что-то про дорогу, что долго стояли на объезде. Катя попросила ещё хлеба. Митя съел всё, что дали, и попросил добавки. Тимоша поел немного и уснул прямо на руках у матери.
После ужина Лёша вышел покурить. Анна Петровна этого не знала, что он курит. Или начал уже потом.
Катя уложила детей в маленькой комнате, где раньше жил Лёша.
Анна Петровна мыла посуду. Слышала, как Катя ходит там, как скрипит кровать, как Митя о чём-то спрашивает сонным голосом.
Потом всё стихло.
—
Ночью Анна Петровна не спала. Лежала на своей кровати, в темноте, и слушала, как дышит дом. Как скрипит половица в Лёшиной комнате, как гудит в трубе октябрьский ветер, как где-то далеко, за полем, лает собака.
Она думала: зачем приехали.
Не со злостью думала, не с подозрением. Просто не понимала. Восемь лет молчания, и вдруг: приедем. Она не позволила себе думать о том, что будет дальше. Только об этой ночи, об этом доме, в котором опять было несколько живых человек.
Под утро она всё-таки уснула.
—
Утром Митя проснулся раньше всех. Анна Петровна слышала, как он тихонько пробирается по коридору, открывает дверь на кухню. Встала, накинула халат.
Мальчик стоял у окна и смотрел на огород.
— Доброе утро, — сказала Анна Петровна.
— Доброе утро. — Он обернулся. — А это всё ваше?
— Моё.
— Там яблоня?
— Яблоня.
— А яблоки есть?
— Поздние. Должны быть ещё. Пойдём посмотрим.
Она и сама не знала, почему предложила. Просто само сказалось.
Они вышли в огород в утренней сырости, Митя в носках на её старых галошах, огромных ему, смешных. Под яблоней нашли несколько антоновок, Митя сам поднял их с земли, тщательно, как что-то очень важное.
— Кислые, наверное? — спросил он.
— Попробуй.
Он куснул. Скривился. Потом откусил ещё.
— Вкусные, — сказал он с удивлением. — Кислые, но вкусные.
Анна Петровна смотрела на него, на эти щёки с ямочками, на серьёзные Лёшкины глаза в маленьком чужом лице.
— Пойдём, самовар поставим, — сказала она. — Мама твоя встанет, чай будет.
—
Лёша встал позже. Вышел заспанный, потёр лицо, посмотрел на сына, который уже сидел за столом с яблоком в обеих руках.
— Ты откуда взял?
— Бабушка дала. Мы ходили. Там ещё много.
Лёша посмотрел на мать. Она стояла у плиты.
— Мама, помочь чем?
— Сядь. Сам всё.
Он сел. Потом встал, налил себе воды, снова сел. Беспокойный какой-то, руки занять не знал куда.
— Мама, я хотел сказать…
— Лёша. Не надо пока. Позавтракаем сначала.
Он замолчал. Посмотрел на сына, на яблоко в его руках.
— Митька, не съешь сразу два. Живот скрутит.
— Один уже съел.
— И того хватит.
Вошла Катя, Тимоша за ней, сонный, волосы торчком. Увидел Митю с яблоком, захотел тоже. Митя не дал. Тимоша немедленно расстроился.
— Тимоша, подойди, — сказала Анна Петровна.
Он оглянулся на мать. Катя кивнула.
Анна Петровна достала из вазочки карамельку, вчера нашла в буфете. Протянула ему.
Он взял. Посмотрел на неё долго, серьёзно. Потом сказал:
— Спасибо, бабушка.
И это слово, вот так просто, без усилия, из маленького незнакомого рта, сделало что-то такое с Анной Петровной внутри, что она отвернулась к плите и долго смотрела в огонь.
—
После завтрака Лёша пошёл посмотреть дом, крышу, забор. Ему всё время нужно было что-нибудь делать руками.
Дети остались во дворе. Митя нашёл старое ведро и зачем-то таскал в нём землю из одного места в другое. Тимоша ходил за ним хвостом.
Катя помогала убирать со стола. Анна Петровна не просила, она сама. Молча собирала тарелки, молча мыла, ставила на полку.
Анна Петровна сидела за столом и смотрела, как она это делает. Так же, как когда-то, на поминках. Тихо, аккуратно, ни одного лишнего движения.
— Катя.
— Да?
— Как вы там. Хорошо устроились?
— Хорошо. Лёша работает. Я в школе, продлёнка. Дети в садик ходят.
— Здоровы?
— Да, слава богу.
Помолчали.
— Сложно с двумя-то?
Катя чуть улыбнулась, не оборачиваясь.
— Нормально. Привыкаешь.
Анна Петровна смотрела на её спину. На тонкие плечи, на аккуратно собранные волосы. Подумала, что Катя похудела, что под глазами залегли тени, что она всё такая же тихая, только тишина у неё теперь другая. Не робкая, как раньше. Просто тихая.
— Катя. Я…
— Анна Петровна, — перебила та. Не грубо, мягко, но твёрдо. — Потом. Хорошо?
Анна Петровна кивнула.
—
После обеда Катя сказала, что хочет на кладбище. К маме.
Лёша хотел идти с ней, но она сказала, что одна. Он не стал спорить, только проводил до калитки.
Анна Петровна видела из окна, как она идёт по просёлку, маленькая, в сером пальто, руки в карманах. Видела, как долго она уходит, пока не скрылась за деревьями.
Дети спали в это время. Лёша чинил забор. Анна Петровна сидела у окна.
Через два часа Катя вернулась. Вошла в дом, разулась. Лицо было спокойным, только глаза немного красноватые.
— Анна Петровна.
— Тут я.
— Мама оставила вам письмо.
Анна Петровна не поняла сразу.
— Какое письмо.
— Она написала. Ещё до того, как совсем плохо стало. Сказала: если когда-нибудь это нужно будет, отдай. Я долго не отдавала. — Катя достала из кармана пальто конверт, обычный, без марки. — Возьмите.
Анна Петровна взяла. Конверт был мятый, видно, долго лежал. На нём было написано одно слово: «Анне».
Катя ушла в комнату к детям.
—
Анна Петровна долго сидела с конвертом в руках.
Потом встала, зажгла лампу на столе, хотя за окном было ещё светло. Просто так. Для себя.
Вскрыла конверт.
Бумага была в линейку, вырвана из тетради. Почерк мелкий, округлый, некоторые буквы смазаны, как будто писали наспех или рука дрожала.
«Анна.
Я не знаю, дойдёт ли это письмо. Может, Катенька решит не отдавать. Может, ты решишь не читать. Это твоё право. Я пишу не для того, чтобы упрекнуть. Я устала упрекать. Я всю жизнь кого-нибудь упрекала, и первым делом себя.
Я хочу рассказать тебе про сестру. Про Надю.
Нам было лет по двадцать пять. Она встречалась с парнем, Игорем. Я думала, что он её погубит. Я думала, что я её люблю и должна защитить. Я думала много чего.
Я рассказала его семье то, чего не было. Выдумала. Про Надю. Что она нехорошего поведения, что у неё кто-то до него был. Ничего этого не было, я придумала, потому что мне казалось, что так лучше для неё. Что потом скажет спасибо.
Они разошлись. Игорь уехал. Надя не знала, почему. Она долго не знала.
Потом узнала.
Она не стала меня упрекать. Ничего не сказала. Просто стала другой. Я видела, как она стала другой, и понимала, что это я. И не могла найти слов. Я думала: сейчас не время, потом поговорим, она остынет, поймёт, что я для неё старалась.
Потом времени не стало.
Её не стало. Весной. Никто не понял сначала, что случилось. Потом поняли. Она сама.
Анна, я не для того тебе это пишу, чтобы ты испугалась. Твой сын жив. Катенька жива. Ещё не поздно.
Я несла это всю жизнь. Сорок лет. Каждый день. Думала, что мне нет прощения. Может, и нет. Я не знаю, кто прощает и прощают ли вообще.
Но я знаю другое. Я знаю, что ты любила своего сына. Так же как я любила Надю. Мы обе хотели уберечь своих, только не умели. Не знали как. Думали, что знаем, а не знали.
Это не оправдание. Я не оправдываю ни тебя, ни себя.
Просто хочу, чтобы ты знала: я понимаю.
Я понимаю, откуда это берётся. Из страха. Из любви, которая стала страхом и забыла, как была любовью.
Мне жаль, что мы не поговорили при жизни. Мне жаль много чего.
Пусть дети твои будут здоровы.
Валентина.»
—
Анна Петровна дочитала.
Сложила письмо. Положила на стол. Разгладила рукой, хотя оно уже лежало ровно.
В доме было тихо. Слышно было, как во дворе Лёша перестал стучать молотком. Как где-то пискнул Тимоша и сразу замолчал. Как в трубе тихонько тянет ветер.
Она не плакала.
Она сидела очень прямо, руки на коленях, и смотрела на конверт.
Потом что-то случилось. Не сразу. Постепенно, как оттаивает промёрзшая земля, сначала у самой поверхности, потом глубже и глубже. Что-то, что держалось внутри восемь лет, какая-то перегородка, какая-то стенка, которую она поставила и сама забыла поставила ли, или она сама выросла, или это просто стало частью неё, вот это что-то начало отпускать.
Слёз не было. Только горло перехватило так, что стало больно дышать. И глаза стали горячими. И руки задрожали.
Она сидела и дышала в этой тишине, и слышала, как дрожат руки, и чувствовала, как горячо в горле.
Потом слёзы всё-таки пошли. Не навзрыд, не с рыданиями. Просто потекли, сами, как течёт вода, когда убираешь пробку. Тихо и неостановимо.
Она не вытирала. Сидела и плакала первый раз за восемь лет.
—
Катя вышла через какое-то время.
Анна Петровна не слышала, как она идёт, только почувствовала, что в комнате стало другое движение воздуха. Подняла голову.
Катя стояла в дверях. Смотрела на неё.
На столе лежало письмо.
Они смотрели друг на друга молча. У Кати было такое лицо, как будто она что-то готовилась сказать, и уже не первый раз готовилась, и каждый раз не говорила, и сейчас опять замолчала.
— Катя.
Анна Петровна слышала, как звучит её голос. Хрипло. Странно. Как будто его долго не использовали.
— Катя. Спасибо тебе, дочка.
Слово само вышло. Не подготовленное, не взвешенное. Просто вышло.
Катя стояла неподвижно. Потом что-то прошло по её лицу, быстро, как тень от облака по воде. Она вошла в комнату. Подошла к столу. Постояла рядом с Анной Петровной.
Потом сказала:
— Самовар поставить?
Анна Петровна посмотрела на неё.
— Поставь, — сказала она.
—
Катя ушла на кухню. Зашумела вода из крана. Звякнул самовар.
Анна Петровна взяла письмо со стола. Сложила ещё раз, аккуратно, по старым складкам. Убрала в конверт.
Встала. Подошла к окну.
За окном был огород, яблоня в дальнем углу, и поле за забором, и небо над полем, низкое октябрьское небо, серое и мягкое, как старое одеяло. В огороде Митя всё ещё возился с ведром. Тимоша уже бросил его и просто сидел на земле, копался в чём-то. Лёша стоял у забора, смотрел на них. Курил.
Потом он почувствовал её взгляд, поднял голову. Увидел её в окне.
Они смотрели друг на друга через стекло.
Он не улыбнулся. Она не улыбнулась.
Но он не отвёл взгляд.
И она не отвела.
—
На кухне закипал самовар. Тимоша на улице нашёл что-то в земле и показывал Мите, а Митя объяснял ему что-то с видом знатока. Лёша докурил, бросил в старую консервную банку, которая с лета стояла у забора, и пошёл к мальчикам.
— Тимоша, руки потом отмой, — сказал он.
— Потом, — согласился Тимоша.
Анна Петровна отошла от окна.
Взяла с буфета чашки. Четыре штуки, обычные, в синий цветочек, которые стояли тут ещё при Николае. Поставила на поднос.
Потом подумала и взяла ещё две маленьких, детских. Где-то были. Нашла в дальнем ящике, розовую и зелёную, из старого детского набора, Лёшиного. Поставила рядом.
— Анна Петровна, сахар где? — позвала Катя с кухни.
— В буфете, верхняя полка, справа.
— Вижу.
Потом помолчала немного и добавила:
— Варенье ещё достать?
— Достань. Там черничное и яблочное.
— Какое?
— Оба доставай.
Через несколько минут пришёл Лёша, мальчики за ним. Митя показал ладони:
— Видите, чистые?
— Вижу, молодец, — сказала Анна Петровна.
Тимоша тоже протянул ладони. Они были совсем не чистые.
— Это чистые? — строго спросил Митя.
— Чистые, — твёрдо сказал Тимоша.
Все сели к столу.
—
Катя разливала чай. Анна Петровна открыла варенье. Митя немедленно потянулся ложкой к черничному, и Лёша сказал: «Митька». Митя убрал ложку, но глаз не убрал.
— Бери уже, — сказала Анна Петровна. — Для кого варила.
Митя взял. Посмотрел на отца победно.
— И мне, — сказал Тимоша.
— И тебе. Держи.
За окном темнело. Небо из серого стало синим, потом лиловым. Зажглась одна звезда над самым краем поля, потом другая.
На столе горела лампа. Паровал чай в чашках. Пахло вареньем и яблоками, и старым деревянным домом, и чем-то ещё, чему нет названия, но что бывает только там, где долго жили люди.
Тимоша влез к Кате на колени и сразу начал клевать носом.
— Спать пора, — сказала Катя.
— Нет, — сказал Тимоша.
— Смотри, глаза закрываются.
— Не закрываются.
Глаза закрывались.
Анна Петровна смотрела на него. На маленькое лицо, которое уже съезжало в сон, на короткие пальцы, которые держали кружку, уже не держали, уже разжимались. На то, как Катя подхватила кружку, чтобы не упала, и как Тимоша даже не проснулся.
Она подумала о Валентине. О том, что та написала. О том, что носила сорок лет.
Она подумала о Николае, о том, как он сидел у стены, и как она сказала «опять спектакли», и как хлопнула дверь.
Она подумала, что этого не переписать. Что это навсегда останется с ней, как остался крест Валентины, как останется всё, что мы делаем с теми, кого любим и ломаем этой любовью.
Но она также подумала: вот стол. Вот лампа. Вот чашки. Вот Лёша, который режет хлеб, хотя его никто не просил. Вот Митя, который тайком лезет ложкой в яблочное, думает, что не видят. Вот Катя, которая качает засыпающего Тимошу и при этом умудряется пить чай.
Вот это. Сейчас. Здесь.
— Ещё налить? — спросила Катя.
— Налей, — сказала Анна Петровна.
И Катя налила.
—
Ночью, когда дети спали, а Лёша вышел в сени покурить последний раз, Катя прошла через кухню и остановилась у двери в горницу, где на диване сидела Анна Петровна.
— Не спите?
— Нет. Иди, отдыхай.
Катя помолчала.
— Анна Петровна. Мама писала это долго. Несколько раз переписывала. Я видела черновики потом, в её вещах.
Анна Петровна молчала.
— Она не хотела вас обидеть.
— Я знаю.
— Она говорила, что вы похожи.
— Мы не похожи.
— Нет, — согласилась Катя. — Наверное, нет. Просто она так говорила.
Помолчали.
— Дети завтра до обеда побудут? — спросила Катя. — Или вам…
— До обеда пусть. Я блинов утром поставлю.
— Митя блины любит.
— Видела.
Катя кивнула. Пошла к двери, остановилась.
— Спокойной ночи.
— Спокойной, Катя.
—
Дверь закрылась.
Анна Петровна сидела в темноте. Не зажигала свет. За окном стояла ночь, тихая, как бывает только в деревне, где уже почти никого не осталось. Звёзды были крупные и близкие.
Она думала о Валентине. О том, что та несла свой груз сорок лет. И всё равно смогла написать: «Я понимаю». Не простила, нет. Не сказала «всё хорошо» или «забудем». Просто: понимаю.
Анна Петровна подняла голову и посмотрела в окно.
Завтра она встанет рано. Поставит тесто на блины. Потом пойдёт на кладбище, потому что ходит каждый день и сегодня тоже пойдёт, только поставит к Валентине новые цветы, не пластмассовые, а живые, последние хризантемы из палисадника, они ещё держатся.
Потом вернётся домой. Мальчики к тому времени проснутся.
Она подумала, что надо достать с антресоли старый Лёшкин конструктор. Если не рассыпался.
Подумала, что у Тимоши должны быть такие глаза, как у Николая в молодости. Надо присмотреться.
Подумала, что надо спросить у Лёши про крышу. При нём и починить можно, вдвоём сподручней.
Она встала с дивана. Прошла по тёмному коридору, осторожно, чтобы не разбудить никого.
Остановилась у Лёшиной комнаты. Прислушалась.
Митя во сне что-то сказал, неразборчивое. Потом тихо.
Анна Петровна постояла ещё немного.
Потом пошла к себе. Легла. Укрылась до подбородка, как в детстве.
За окном над полем стояли крупные октябрьские звёзды. Где-то далеко пролаяла собака и замолчала.
Анна Петровна закрыла глаза.
Она не знала, будет ли ей прощение. Она не знала, что будет завтра, и через год, и через пять лет. Она не знала, можно ли отмыть то, что она сделала, и нельзя ли, и есть ли вообще такая вода.
Но она знала, что утром поставит тесто.
И что Митя любит блины.
И что Тимоша ещё не отмыл руки с вечера.
Этого пока хватало.